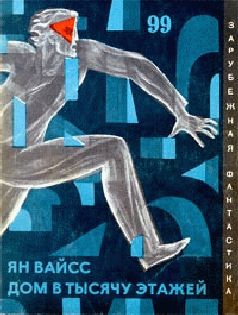Чарльз Диккенс - Повесть о двух городах (пер. Бекетова)
Шпион вышел. Картон сел к столу и подпер лоб руками. Шпион тотчас вернулся назад в сопровождении двоих сторожей.
— Эге, — молвил один из них, глядя на распростертую фигуру, — неужто он так огорчился тем, что его друг вынул честный билетик в лотерее святой гильотины?
— Добрый патриот, — подхватил другой, — был бы не меньше огорчен, если бы этому аристократу достался пустой билет.
Они подняли бесчувственного человека, положили его на принесенные носилки и собрались тащить вон.
— Времени остается немного, Эвремонд! — сказал шпион внушительным тоном.
— Знаю, — отвечал Картон, — пожалуйста, позаботьтесь о моем друге, а меня оставьте одного.
— Ну, ребята, пойдем, — сказал Барсед, — кладите его да и пойдемте.
Дверь заперлась, и Картон остался один. Напрягая слух до последней степени, он прислушивался, не слыхать ли звуков, из которых можно было бы заключить, что возникли подозрения или забили тревогу. Но таких звуков не было. Слышны были отпирание дверных замков, звяканье ключами, хлопанье дверей, шаги по каменным плитам отдаленных коридоров, но ни возгласов, ни беготни — все как обыкновенно. Он вздохнул свободнее, опять сел к столу и слушал, пока часы не пробили два.
После этого в коридорах начались звуки, которых он не пугался, потому что ясно понимал их значение. Несколько дверей отперли подряд, а потом растворилась и его дверь. Тюремный служитель, со списком в руке, заглянул к нему и только сказал: «Эвремонд, следуйте за мной!» И он пошел; его привели в дальний зал мрачного вида.
Было тусклое зимнее утро; внутри зала было темно, на улицах туманно, так что он едва мог различать других арестантов, которых постепенно приводили сюда и связывали им руки. Одни стояли, другие сидели, иные плакали и тревожно двигались по комнате, но таких было мало. Большей частью осужденные молчали, вели себя тихо и пристально смотрели на пол.
Картон стоял в пасмурном углу, прислонившись к стене, покуда приводили остальных, как вдруг один из пятидесяти двух, проходя мимо него, остановился и обнял его как знакомого. Он вдруг ужасно испугался, как бы это не повело к раскрытию его тайны. Но тот прошел дальше, и этот случай не имел дальнейших последствий. Через несколько минут молодая женщина, на которую он только что смотрел, встала со своего места и подошла к нему. У нее была худенькая девическая фигура, кроткое лицо без малейших признаков румянца и большие, широко раскрытые глаза, выражавшие терпение.
— Гражданин Эвремонд! — сказала она, дотрагиваясь до него холодной рукой. — Я, бедная швея, содержалась вместе с вами в крепостной тюрьме.
Он прошептал:
— Да, правда, но я забыл, в чем вас обвиняли?
— В том, что я участвовала в заговоре. Хотя Богу известно, что этого никогда не было. И как же иначе? Кому придет в голову замешать в заговор такое жалкое и слабое создание, как я?
Растерянная улыбка, сопровождавшая эти слова, была так трогательна, что у него навернулись слезы на глазах.
— Я смерти не боюсь, гражданин Эвремонд, только я ничего такого не делала. Я готова умереть, если правда, что это нужно для республики, которая сделает так много добра для всех нас, бедных людей; только я не знаю, зачем ей понадобилась моя смерть. Подумайте, гражданин Эвремонд! Я такое бедное, слабое создание!
Если суждено было его сердцу еще раз согреться и расположиться к кому-нибудь на свете, оно расположилось к этой жалкой девочке.
— Я слышала, что вас освободили, гражданин Эвремонд, и надеялась, что это правда.
— Так и было. Но потом меня опять взяли и осудили.
— Если нас повезут вместе, гражданин Эвремонд, позвольте мне держать вас за руку. Я не боюсь, но я такая маленькая и слабая, а это придаст мне бодрости.
Она подняла на него свои терпеливые глаза, и вдруг он прочел в них сначала сомнение, потом удивление. Он сжал в руке ее исхудалые, шероховатые от шитья и высохшие от голода пальцы и приложил свой палец к губам.
— Это вы за него хотите умереть? — прошептала она.
— Ради его жены и дочери… Тсс! Да, за него.
— О, можно мне будет подержаться за вашу славную руку?
— Тсс! Тише. Можно, моя бедная сестра, до конца.
* * *Тот же пасмурный день, что ложится мрачной тенью на тюрьму, падает и на городские ворота у заставы, где, по обыкновению, толпится народ и где только что остановилась почтовая карета, едущая вон из Парижа. Начинается досмотр.
— Кто едет и куда? Сколько вас там? Подайте ваши документы.
Документы поданы, их начинают проверять вслух.
— Александр Манетт, доктор медицины. Француз. Это который из вас?
— Вон тот хилый старик, что бормочет бессвязные звуки и совсем сгорбился.
— Как видно, гражданин доктор не в своем уме? Вероятно, революционная горячка его одолела?
— Да, кажется, что так.
— Ага! Многие от нее болеют. Люси, дочь предыдущего, француженка. Где она?
— Вот она.
— Да, правда, так и есть, Люси… Ведь она жена Эвремонда?
— Жена.
— Ага! A Эвремонд получил сегодня другое назначение. Люси, ее дочь, англичанка. Вот это она?
— Она и есть.
— Ну-ка, поцелуй меня, дочка Эвремонда. Теперь можешь похвастаться, что целовала доброго республиканца. Это редкость в твоем семействе. Запомни же! Сидни Картон, адвокат, англичанин. Где он?
— Вот он лежит в углу кареты.
— Что это, англичанин и адвокат как будто в обмороке?
— Ничего, надеются, что он скоро очнется на свежем воздухе. Он слабого здоровья и только что испытал печальную разлуку с одним из своих друзей, имевшим несчастье впасть в немилость республики.
— Только-то? Есть о чем горевать! Мало ли таких, что впадали в немилость республики и были вынуждены «выглянуть в окошко». Джервис Лорри, банкир, англичанин. Который?
— Разумеется, я. Больше ведь и нет никого.
Так отвечает сам Джервис Лорри, дававший ответы и на все предыдущие вопросы. Джервис Лорри вышел из кареты, стоит на улице, держась рукой за дверцу, и объясняется с должностными лицами, которые не торопясь расхаживают вокруг кареты, не торопясь лезут на империал и осматривают лежащий там небольшой багаж путешественников. Кое-кто из деревенских, стоящих поблизости, с любопытством подходят к дверцам и жадно заглядывают внутрь. На руках у одной из крестьянских женщин маленький ребенок, и она учит его протянуть свою короткую ручонку и потрогать жену аристократа, муж которой отправился на гильотину.
— Вот ваши бумаги, Джервис Лорри, все в порядке.
— Можно уезжать, гражданин?
— Можно уезжать. Ребята, трогай! Счастливого пути!
— Мое почтение, граждане… Слава богу, первая опасность миновала!
И это говорит тот же Джервис Лорри, благоговейно сложив руки и глядя на небо. Внутри кареты царит ужас, слышен плач и тяжелое дыхание того, кто в обмороке.
— Мы едем слишком медленно. Нельзя ли уговорить их, чтобы везли нас скорее? — спрашивает Люси, прильнув к старику.
— Это было бы похоже на бегство, душа моя. Я боюсь слишком торопить их, чтобы не возбуждать подозрений.
— Посмотрите назад, посмотрите, нет ли за нами погони?
— На дороге совсем никого нет, милочка. До сих пор никто за нами не гонится.
Мимо мелькают дома, по два и по три вместе, одинокие фермы, полуразрушенные здания, красильни, дубильни и тому подобные заведения, просто поля и аллеи оголенных деревьев. Колеса гремят по неровной, грубой мостовой; по обеим сторонам дороги мягкая грязь и глубокие колеи. Во избежание чересчур беспорядочно наваленного булыжника карета съезжает иногда на мягкую дорогу и нередко вязнет в лужах и рытвинах. В такие минуты тревога и нетерпение путешественников до того мучительны, что они в диком ужасе готовы выскочить из экипажа и бежать, куда-нибудь бежать и спрятаться, лишь бы не стоять среди дороги.
Опять простор широких полей, опять развалины, уединенные фермы, красильни, дубильни и прочее, домики по два и по три в ряд, аллеи оголенных деревьев. Что же это, они обманули нас и другой дорогой привезли на прежнее место? Разве это не то же место, где мы давеча были? Нет, слава богу. Это деревня. Посмотрите, посмотрите, нет ли за нами погони?.. Тише… здесь почтовый двор.
Не спеша откладывают четверку лошадей; карета остается среди маленькой сельской улицы одна-одинешенька и стоит, точно у нее нет ни надобности, ни надежды двинуться дальше. Наконец не спеша приводят поодиночке другую четверку лошадей; вслед за ними, переваливаясь с ноги на ногу, являются новые форейторы: они не торопясь муслят и расправляют ремни своих бичей; прежние форейторы не торопясь пересчитывают свои деньги, перевирают счет и выражают недовольство полученными выводами. А в карете между тем измученные сердца колотятся так шибко, что за ними не угнаться ретивейшим коням в мире.