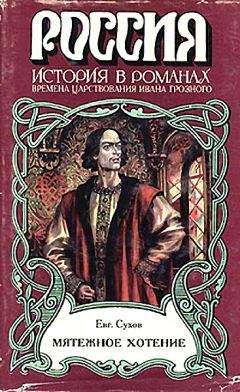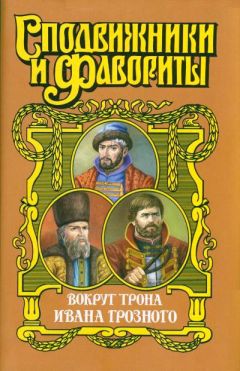Всеволод Иванов - Черные люди
— Где отец да Кольцов?
— Плывут, государь, за мной!
— Изменники! — взревел воевода. — Государевы ослушники! На печи вам сидеть да с бабами бабиться… Казаками зоветесь! Ну, я их все равно схвачу… Да и в Енисейском, Тобольском острожках скоро тоже кормов не будет — война дома идет. Не до нас Москве. Не испромыслим сами — там и погибнем!
Глухой ропот дунул ветром по дощаникам.
— А жалованье государево? — раздался скрипуче железный голос из встречной лодки.
— Нету! — кричал воевода. — Своим подъемом идем! Кормщики, разводи лодьи! Ванька, подходи к нам, вылезай обое!
Выбежали дощаники против воды — один за другим, один за другим, а воевода закрылся в своем чулане с Ванькой Колесниковым да с Фомкой Спириным, подьячий Шпилькин вел допрос, добивался: чего ради воруют колесниковские да кольцовские людишки, нет ли тут скопу против государевой прибыли? Измены нет ли?
Развели Ванька до Фомка руками, стонут:
— Государь, хлебушка нету. Пороху нету. А про скоп да про измену не слыхать…
Выглянул, озверев, воевода из чулана, крикнул:
— Кнутов!
Вытащили Ваньку из чулана, раздели, дали пятнадцать кнутов. Люди со всех дощаников смотрят, как рубит кнут Ванькину спину, глазами посверкивают. А иной и смеется — рад, дурак, что другому жарко приходится… Протопоп с тихой досады на дно лег, тулупом прикрылся, не слышит крика:
— Государь, смилуйся, пожалуй! Все обскажу… Измена, государь!
— Добро! — крикнул воевода. — Ослобони!
Ваньку и Фомку сволокли в чулан, и снова тихо плывет караван вперед, в неведомые земли.
Еще солнце не село, а в глубоких берегах, в скалистом ущелье пала тьма, только слышно — вода шумит.
Приставали к берегу, варили в котлах кто кашу, кто похлебку, спали у костров. Ночью звезды дрожали над горами, костры шаяли алым угольем, порхали в них синими мотыльками легкие огоньки, а под тулупами тоже шаяли шепоты. Иван Колесников, лежа на животе, рассказывал, что больно немирны в тех местах иноземцы, утащили у них двух казаков, привязали за ноги к березам, согнутым друг к другу, пустили березы — и казаков разорвало пополам, только синие черевья повисли в воздухе. Пропал у них Сенька Пальянов, оцинжал, истаял с голодухи, что восковая свечка, помер без покаяния, а как закопали его в землю, всю ночь на могиле ревели медведи, много их сошлось.
Ночь проходила в сырой темноте, всю ночь слышно было— рыба плещется в реке, филины ухают в лесу, сычи стонут. Сова, трепеща на мягких крыльях своих, остановится над костром, сверкнет от костра глазами, исчезнет, медведи ревут, тайга полна шорохов, тревоги.
И сон бежал с глаз, люди вздыхали: скорей бы приходило солнце, все видеть с солнцем, а что видко, то не страшно. И перед самым светом на другой день заслышали с дощаников сторожа всплески весел на самом стрежне, увидели проблеск воды под ущербным месяцем — проскочил чей-то дощаник мимо ночного становища. Слыхать по греби — русские, свои гребут, рвут больно сильно! Спешат… Крик пошел, пальба, бросились в лодью, в угон. Да где догонишь! Проскочил дощаник, стихло все, один воевода ревет бесперечь. Проплыли, надо быть, и Кольцов и Колесников, а кто их знает… Ищи ветра в поле!
Кричит воевода:
— Ванька, зови отца, чтоб ворочался, не то тебя запорю!
И протопоп слышал и крики, и тревогу, и пальбу, и крепкие слова. Приподнялся на своем ложе из мягкого лапника, осмотрелся. Ребята спят — ну, дети! А протопопица? Хитрая! Поди, не спит? Опустил протопоп косматую свою голову на мешок. Что делать? Что делать? Господи, вразуми! Насилье он ненавидит, но ни силы, ни власти у него самого нет. И никто его и не слушает… Государевы служилые и охочие люди идут туда, куда повел их воевода Пашков, идут за государевой прибылью. А если не хотят они идти? Поведут их кнутом, да руганью, да виселицей — иначе воеводе самому попасть на дыбу. Не в крест, видно, а в кнут верят и воевода и сам царь, а такая вера ненависти устоит! Неправа она. Или ему, протопопу, эдак и терпеть неправду? Ай нет? Себя-то жалко и семью. Господи, вразуми!
Рыданье вырвалось было из горла его, — сдержался, зажал рот.
— Не спишь, отец? — отозвался чей-то шепот рядом, из-за елочки. — Я тоже не сплю. Простой я человек, не письменный, не пойму чтой-то. Господь все небо звездами изукрасил, а к чему? Али чтобы люди друг друга под такой красотой били бы да мучили? А?
Не отозвался протопоп. Чей тот голос? Как отозваться? И утих неведомый шепот в ночи. Марковна зашевелилась— не спит, однако.
Куда пойдет протопоп, кому скажет? Он обличает Никона, а за что? Старину Никон отверг… А Никон вон говорит, что старина пуще у греков — те-де крестятся по-старому. Одни так, другие эдак. Да не разница такая страшна. Угнетенье страшит… Насилье! Страшно, что Никон людей за крест Христов на цепь сажает, в тюрьмах гноит, в ссылки шлет. Вот-те и Христос, куда девался! Государевой прибыли ищет воевода, то ему в честь, да не такой же ценой… Ревет, аки скимен! Ты силу кажешь, дурачок, а ты любовь, любовь к людям покажи! Заботу! За любовь люди больше сделают…
Проснулась Ксюшка, заплакала, Настасья Марковна сразу зашушукала на нее. «Ну, не спала, хитрая! За мужем, должно, следила… «Любовь есть, когда душой человек к человеку приваривается, что железо к железу, и становятся двое во плоть едину…» Да и он, Афанасий Пашков, хоть воевода, а сын мне духовный, а я ему отец, одна у нас с ним мать — церковь, одна крыша — небо, одно солнце! Пусть он мне и досаждает, а все равно нужно и таких Пашковых любовью принимать. Что делать!»
Стал засыпать тут протопоп, борода сыра не то от слез, не то от ночи, и вспомнил он давний свой сон. Еще на Волге видел он: плывут стройно два струга золотых по Волге, и весла золотые на них, и шесты золотые — все как есть золотое. И по одному кормщику в них. Спрашивает Аввакум: «Чьи корабли те?» И ответ слышит: «Луки да Лаврентья». То дети были духовные Аввакумовы Лука да Лаврентий, умерли они в те поры доброй смертью. И тут же третий струг через Волгу плывет — не золотой, а черный, да белый, да красный, да серый, и юноша в нем один сиделец, и летит струг тот прямо на него, на попа, и вскричал в страхе Аввакум: «Чей корабль этот?» И отвечал ему кормщик: «Твой он, твой, на, плавай в нем с женой да с детьми, коли своего добиваешься!» Ин, видно, и подошло то страстное плавание…
Ворочается протопоп в тонком сне, то заснет, то проснется. Ворочается беспокойно в чулане и воевода Пашков — чудится ему измена кругом. И еще — куда ему плыть? «Ну вот, до Илимского острожка доплыву, Хабарова спрошу, — думает воевода. — Кому знать, как не Хабарову?»
Ерофей Павлыч — мужик что твой таловый прут: ткни его в сырой песок — растет, листья, корни дает! Доплыли дощаники до Илимского острожка, там ударил сполошный колокол, на стены стрельцы бегут, гремит набат, воротники ворота притворяют, посадские мурашами в город с узлами спешат — в осаду садиться, мужики с полей верхами в деревни скачут, рубахи пузырем. Дощаники пристали к берегу ниже устья Илим-реки, а воевода на своем поплыл к городку.
Стих набатный звон.
Смотрит с реки Пашков — нивы кругом острожка золотые, урядливые, по лугам скот пасется пестрый, лошадей табуны, вокруг посада все огороды в поскотинах. Две мельницы ветровые мелют. А с острожка идет среди других мужиков в коричневой однорядке, в красной рубахе седобородый, чернобровый, сам приказчик сих мест, боевой устюжский пашенный и торговый человек, ныне жалованный царем боярский сын Хабаров Ерофей Павлыч, ломит шапку с серебряных кудрей.
— Что сполоху нам натворил, покамест распознали! — смеется он и кланяется воеводе, пальцами касаясь песку. — Милости просим, пожалуй!
Воевода в цветном кафтане стоит в дощанике, стрельцы на шестах подводят посуду к берегу, кладут мосток, и воевода сходит на желтый песок, сын Ерема его под локоть держит.
— Здрав буди, воевода! — говорит Хабаров.
— Поздорову ль, Ерофей Павлыч? — спрашивает Пашков. — Милости прошу на дощаник ко мне — медку испить малинового стоялого…
И повторил с поклоном:
— Пожалуй-ста!
Хабаров с поклоном же прошел по сходне на дощаник, за ним следом оба Пашковы. Сели под парусом, в холодок. Еремей побежал за медом.
— А где теперь воевода твой? — осведомился Пашков.
— Я за всех! — смеется Хабаров. — Один старый, Богданов, в Москве, по весне уплыл, другой, новый, Бунаков, к осени, слышь, будет… Один управляюсь.
Взглянул Пашков по-ястребиному:
— Без воеводы?
— Ага! Народ-то сам работает!
— А государеву десятину как сдаешь?
— В Тобольск. А ты далеко ль плывешь?
— На Амур.
— Воеводой?
— Ага!
Хабаров покачал головой сомнительно.
— На Амуре топерва, пожалуй, воеводам не вод, — усмехнулся он. — Народ на Амуре вольный. Казаки да охочие люди… Пленные. Утеклецы. Донским обычаем живут. Кругом казацким, ну, вечем…