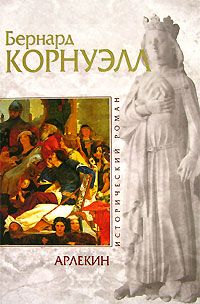Умберто Эко - Имя розы
Итак, Вильгельм сказал, что его дедукции, он уверен, подтверждаются личным примером самого Христа Иисуса, который пришел в этот мир не повелевать, а подчиниться тем условиям, которые создались до его прихода в этом мире, по меньшей мере во всем, что касалось законодательства Цезаря. Он хотел и чтобы апостолам пришлось повелевать и властвовать, а из этого вытекает, что было бы естественно, если бы и последователи апостолов избавились от какого бы то ни было гражданского, принуждающего владычества. Если понтифик, епископы и священство сами не были бы подчинены гражданской и принуждающей власти князей, власть князей неминуемо тем самым оказалась бы под ударом, а следовательно, оказался бы под ударом и правопорядок, который, как доказано прежде, установлен самим Господом. Необходимо, конечно же, оговорить особо, – продолжал Вильгельм, – самые деликатные случаи, как, например, вопрос о еретиках, относительно еретичества которых одна только церковь, хранительница божественных истин, может выносить решение, однако применять к ним силу могут только светские карательные органы. Между тем, когда церковь квалифицирует еретиков как таковых, она, разумеется, обязана указывать на это князю, который должен быть как можно лучше осведомлен о состоянии подданных. Однако что должен делать после этого князь с еретиком? Казнить его во имя той божественной истины, которой не он является хранителем? Князь может и даже обязан казнить еретика, если его деятельность угрожает общежитию всех, то есть если еретик распространяет ересь, уничтожая или преследуя всех, кто ее не разделяет. Однако только этим пределы власти правителя и ограничиваются, потому что никто на этой земле не должен быть принуждаем, путем телесных угроз, к выполнению предписаний Евангелия, иначе куда бы девалась та свобода воли, за осуществление которой каждый будет впоследствии судим в ином мире? Церковь может и обязана предупредить еретика, что он исключает себя из общества верующих. Но она не имеет права судить его на этом свете и принуждать его помимо его желания. Если бы Христу было угодно, чтобы его служители обладали принуждающей властью, он оставил бы им прямые предписания, как поступил Моисей, оставивший ветхий закон. Христос так не поступил. Следовательно, он этого не желал. Не предполагается же такое возражение, что якобы-де на самом деле он желал, но не сумел по недостатку времени или способностей составить такой закон за три года проповедничества? И совершенно правильно, что он этого не желал, потому что если он пожелал бы что-либо в подобном духе, папа смог бы на этом основании диктовать свою волю королю, и христианство перестало бы быть законом свободы, а превратилось бы в невыносимое рабство.
Все вышесказанное, продолжал учитель с сияющим лицом, призвано служить не к ограничению власти верховного понтифика, а к вящему возвеличению его миссии: ибо раб рабов Господа приходит на эту землю, чтобы служить, а не чтоб ему служили. И в конце концов, было бы по меньшей мере странно, если бы папа пользовался властью над делами империи, но не пользовался властью над делами прочих царств этой земли. Как известно, все, что провозглашается папой о делах божественных, одинаково относится как к подданным французского короля, так и к подданным короля Англии; но это же, по идее, в равной степени должно относиться и к подданным Великого Хана или султана неверных, поскольку неверные называются неверными именно потому, что пока не верят в неоспоримую божественную истину. Следовательно, если бы папа смирился с тем, что в гражданском смысле он располагает властью – в качестве римского папы – только над делами империи, он тем самым породил бы подозрение, что именно потому, что он сам отождествляет власть государственную с властью духовной, по его же собственной логике, он не обладает духовной властью не только над сарацинами или татарами, но и над французами или англичанами, каковое утверждение, вообще говоря, составляет собой злостное оскорбление святейшества… Вот по какой причине, подвел итоги учитель, ему видится справедливым вывод, что авиньонская церковь наносит оскорбление всему человеческому обществу, притязая на то, что именно ей должна быть предоставлена власть утверждать или отвергать кандидатуру того, кто предварительно был облечен саном императора римлян. Папа не имеет на Римскую империю никаких особенных прав, не больше, нежели на другие царства, и поскольку не подлежат папскому утверждению ни король Франции, ни султан, неизвестно, по какой исключительной причине должен подлежать папскому утверждению император немцев и римлян. Подобная претензия не имеет божественного обоснования, так как в Писании ничего об этом не сказано. Она не вытекает из законодательства народов, в силу вышеприведенных причин. Что же касается дискуссии о бедности, сказал напоследок Вильгельм, то несколько скромных суждений, высказанных им некогда в самой разговорной форме, в виде необязательных предположений, в ходе беседы с несколькими друзьями – с такими, как Марсилий Падуанский и Иоанн Яндунский, – можно было бы суммировать в следующем: если францисканцам желательно оставаться бедными, император не должен и не может противостоять такому похвальному желанию. Разумеется, если бы гипотеза о Христовой нищете была официально доказана, это бы не только помогло миноритам, но и укрепило ту идею, что Христос не добивался лично для себя никакого гражданского правления. Однако ему, Вильгельму, довелось слышать сегодня немало рассуждений самых здравомыслящих особ, которые доказывали, что бедность Христа недоказуема. Исходя из этого, может быть полезно перевернуть причину и следствие. Поскольку никем не утверждалось и никем не могло утверждаться, что Иисус добивался для себя и для своих близких какого-либо земного правления, эта самая отрешенность Иисуса от земных вещей представляется достаточным основанием для того, чтобы без греха почесть вероятным утверждение, что Иисус, таким образом, больше тяготел к бедности.
Вильгельм говорил настолько неуверенным голосом, обосновывал свои доказательства так стеснительно и смиренно, что ни у кого из присутствующих не было видимого повода вскочить и дать ему резкий отпор; однако это не означало, что все сидевшие в зале согласились с тем, что сказал Вильгельм. И не одни только авиньонцы беспокойно шевелились, хмурили брови и шептали друг другу на ухо возражения; но даже и сам Аббат, казалось, был весьма неприятно поражен словами Вильгельма и всем видом показывал, что не в этом, нет, не в этом духе мыслились ему взаимоотношения его ордена с империей. Что же до делегатов-миноритов, Михаил Цезенский был озадачен, Иероним взбудоражен, Убертин задумчив.
Молчание нарушил кардинал Поджетто, как всегда улыбающийся и благостный, который самым любезным образом осведомился, готов ли Вильгельм приехать в Авиньон и высказать все то же самое перед папой. Вильгельм в ответ спросил суждения кардинала; тот сказал, что его святейшество папа слыхивал в своей жизни немало спорных высказываний и знаменит снисходительностью к любым духовным детям, однако, без сомнения, речь, произнесенная Вильгельмом, очень бы его огорчила.
Тут вмешался Бернард Ги, который до этих пор ни разу не раскрывал рта: «Я был бы очень рад посмотреть, как брат Вильгельм, столь уверенный и красноречивый здесь, перед нами, повторил бы все то же самое в присутствии понтифика».
«Вы меня уговорили, господин Бернард, – отвечал Вильгельм. – Я не еду». И добавил, обращаясь к кардиналу, как бы прося у того извинения: «Понимаете ли, ваша милость, сейчас у меня начинается грудная простуда, которая вряд ли позволит мне предпринять настолько далекое путешествие в эту пору года».
«Но в таком случае зачем вы так долго выступали?» – спросил его кардинал.
«Чтобы засвидетельствовать истину, – смиренно отвечал Вильгельм. – Истина делает свободным».
«Ну нет! – сорвался с места в этот момент Джованни Дальбена. – Здесь дело уже не в истине, которая делает свободным, а в непозволительной свободе, которая хочет сойти за истину».
«И это вероятно», – сладким голосом ответил Вильгельм.
Каким-то внутренним чутьем я ощутил, что сейчас будет взрыв и страсти, и языки забурлят еще яростнее, чем прежде. Но этого не случилось. Не успел Дальбена закончить свою речь, как вошел капитан лучников и что-то прошептал на ухо Бернарду. Тот резко встал и движением руки остановил прения.
«Братья, – сказал он. – Возможно, эта полезная дискуссия еще будет нами возобновлена. Однако сейчас происшествие несказанной тяжести вынуждает нас оставить любые занятия – с соизволения Аббата, разумеется. Могу сказать Аббату, что я, сам не желая этого, по-видимому, опередил его намерения, между тем как он надеялся своими силами найти виновника тех многих злодеяний, которые имели место в обители в прошедшие дни. Виновник теперь мною задержан. Но, увы, его взяли слишком поздно. И еще один раз… случилось нечто…» – и он неопределенно махнул рукой в сторону выхода. Затем быстрым шагом пересек залу и вышел наружу. За ним бросились остальные. Вильгельм – в первом ряду, я – рядом с ним.