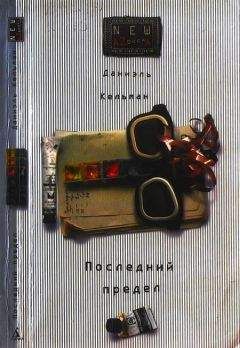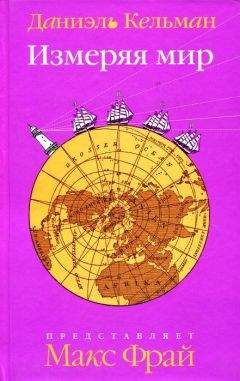Тилль - Кельман Даниэль
Она слезает, тяжело дыша. Мальчик пытается поймать ее за руку, но она отталкивает его.
— Понимаешь? — спрашивает она.
— Что?
Агнета хватает ртом воздух.
— Кто-то должен остаться с мукой. Она ценой в половину всей мельницы.
— Один в лесу?
Агнета стонет.
Хайнер переводит тусклый взгляд с Агнеты на мальчика и обратно.
— С двумя дураками я тут очутилась.
Агнета прижимает обе руки к щекам мальчика и пристально смотрит ему в лицо, он видит свое отражение в ее глазах. Дышит она тяжело, хрипло.
— Понимаешь? — тихо спрашивает она. — Мальчик мой, сердце мое, понимаешь? Ты ждешь здесь.
Его сердце бьется так громко, что, кажется, и она должна услышать. Он хочет сказать, что она плохо придумала, что это у нее от боли мысли путаются. Ей не добраться пешком до мельницы, туда несколько часов ходу, а у нее вон как кровь идет. Но его горло пересохло, и слова застревают в нем. Он беспомощно смотрит, как она хромает прочь, опершись на Хайнера. Тот наполовину поддерживает ее, наполовину тащит волоком, она стонет при каждом шаге. Некоторое время он их еще видит, потом слышит стоны, все тише и тише, потом остается один.
Чтобы отвлечься, он тянет осла за уши. За правое, за левое, снова за правое. Каждый раз осел печально мычит. Почему он такой терпеливый, такой безропотный, почему не кусается? Мальчик смотрит ослу в правый глаз: как стеклянный шарик в ямке, темный, влажный, пустой. Глаз не моргает, а только немного вздрагивает, когда мальчик дотрагивается до него пальцем. «Каково быть этим ослом? — думает он. — Быть заключенным в ослиную душу, носить на плечах ослиную голову с ослиными мыслями, каково это?»
Он задерживает дыхание и прислушивается. Ветер: звуки внутри звуков, а за ними другие звуки, что-то гудит, и шуршит, и пищит, и трещит, и вздыхает. Шепчутся стволы, а над ними шепчутся листья, и снова ему кажется, что стоит некоторое время их послушать, и он все поймет. Он начинает тихо напевать, но собственный голос кажется ему чужим.
Тут он замечает, что мешки с мукой связаны между собой, длинная веревка тянется от одного к другому. Он с облегчением достает свой нож и принимается делать надрезы на стволах.
Он натягивает веревку между двумя деревьями на уровне груди, и ему сразу становится легче. Проверяет хорошо ли пружинит веревка, снимает башмаки, залезает наверх, и проходит, расставив руки, до середины. Стоит перед телегой и ослом над глинистой дорогой. Теряет равновесие, спрыгивает, сразу же залезает обратно. Из куста поднимается пчела, снова опускается, исчезает в зелени. Мальчик медленно идет по веревке. Доходит почти до самого конца, но все-таки падает.
Некоторое время он лежит, где упал. Зачем вставать? Он переворачивается на спину. Что-то изменилось. Как будто время заело. Все так же шепчет ветер, все так же колышутся листья, у осла бурчит в животе, но время тут ни при чем. Раньше было Сейчас, и сейчас тоже Сейчас, и через много времени, когда все изменится и все люди будут другие, и никто кроме Господа Бога не будет помнить его и Агнету, и Клауса, и мельницу, — и тогда все равно будет Сейчас.
Полоска неба над ним давно превратилась из голубой в синюю; теперь ее затягивает бархатистая серость. Тени ползут вниз по стволам, внезапно в лесу вечер. Свет наверху сгущается в слабое мерцание. И вот уже ночь.
Он плачет. Но потому что помочь ему некому и потому что вообще долго плакать трудно — кончаются слезы и силы, — в конце концов он утихает.
Пить хочется. Агнета и Хайнер забрали с собой бурдюк с пивом. Хайнер обвязал его вокруг пояса и ушел, никто не подумал оставить ему попить. Губы пересохли. Неподалеку должен бы быть ручей, но как его найти?
Звуки теперь другие, чем днем. Голоса животных другие, другой шум ветра, и сучья трещат иначе. Он прислушивается. Наверху, наверно, безопаснее. Он пытается забраться на дерево. Но это нелегко, когда почти ничего не видно. Тонкие ветки ломаются, растрескавшаяся кора врезается в пальцы. Башмак соскальзывает с ноги, мальчик слышит, как он стукается о ветку, потом о другую. Он прижимается к стволу, тянется вверх, залезает еще чуть выше. Дальше никак.
Некоторое время он держится, висит. Он думал, что сможет спать на широкой ветке, прислонившись к стволу, но теперь понимает, что так не получится. На дереве не найти мягкого уголка, и все время приходится держаться, чтобы не упасть. Сучок врезается в колено. Сперва кажется, что можно потерпеть, но терпеть становится невозможно. И сидеть на ветке тоже больно. Он вспоминает сказку о злой ведьме и красивой дочери, и рыцаре, и золотом яблоке. Узнает ли он когда-нибудь, как она кончается?
Он слезает с дерева. В темноте это трудно, но он движется ловко, не соскальзывает, добирается до земли. Только башмак найти не может. Хорошо, что хоть осел на месте. Мальчик прижимается к мягкому боку, от которого тепло несет хлевом.
Ему приходит в голову, что мать может вернуться. Если она умерла по дороге домой, то может внезапно появиться здесь. Может коснуться его, нашептать ему что-нибудь, показать свое преображенное смертью лицо. От этой мысли сердце леденеет. Неужели так бывает, что только что любил человека, а через какое-то мгновение ничего ужаснее и представить себе не можешь, чем его увидеть? Он вспоминает, как маленькая Гритт в прошлом году пошла собирать грибы и встретила своего мертвого отца: глаз у него не было, и он парил в ладони от земли. Вспоминает голову, которая явилась много лет назад бабушке в пограничном камне за двором Штегеров: подними, говорит, юбку, девка — и никто там за камнем не прятался, а у самого камня вылезли вдруг глаза и губы, — подними, давай, покажи, что под ней! Бабушка это рассказывала, когда он был маленький; теперь она много лет как умерла, уже и тело ее, верно, давно распалось, глаза превратились в камни, волосы — в траву. Он запрещает себе думать про такое, но не думать не получается. И, главное, одну мысль никак не отогнать: лучше пусть Агнета будет совсем мертвая, лучше пусть вечно мучается в самом глубоком аду, только пусть не выходит вдруг призраком ему навстречу из кустов.
Осел вздрагивает, где-то неподалеку трещит дерево, что-то приближается, его штаны наполняются теплом. Огромное, мощное тело движется мимо, удаляется, в штанах остается холодная тяжесть. Осел бурчит, тоже почувствовал. Что это было? Теперь между кустами мерцает что-то зеленоватое, больше светлячка, но свет слабее, и от страха голову заполоняют бредовые видения. Его бросает в жар, потом в холод. И снова в жар. И несмотря на все он думает: лишь бы Агнета, живая или мертвая, не узнала, что он наделал в штаны, а то побьет. А когда он видит, как она скулит, лежа под кустом, который в то же время и веревка, и на веревке этой земной диск свисает с луны, то остаток растворяющегося сознания говорит ему, что он, должно быть, засыпает, устав от страха и бешеного стука своего сердца, что к нему милосердно пришел сон, и он закрывает глаза на холодной земле, в ночном шуме леса, рядом с тихо храпящим ослом. Он не знает, что его мать и правда лежит совсем недалеко, что она скулит и стонет под кустом, похожим на куст из его сна, под можжевельником с величаво набухшими ягодами. Она лежит там, в темноте. Там.
Агнета и батрак пошли короткой дорогой, у нее не было сил на безопасный обходной путь, вот и оказались слишком близко от прогалины Стылой. Теперь Агнета лежит на земле, обессилевшая, охрипшая так, что почти не может кричать. Хайнер сидит рядом, держит на коленях новорожденное существо.
Он думает, не сбежать ли. Что его здесь держит? Женщина эта умрет, а если его обнаружат рядом, скажут, что он виноват. Всегда так бывает. Если случится что дурное, и рядом батрак, то его и вина.
Он мог бы исчезнуть навсегда, ничего его у Ройте-ров не держит, кормят мало, обращается с ним крестьянин плохо, бьет, как собственных сыновей. Почему бы не бросить здесь мать и младенца? Мир велик, говорят батраки, новые хозяева всегда найдутся, дворов на всех хватит, куда ни подашься, все лучше смерти будет.