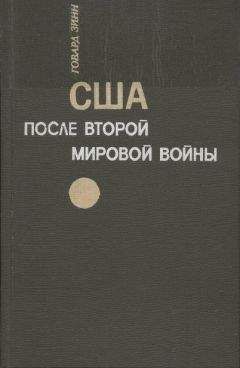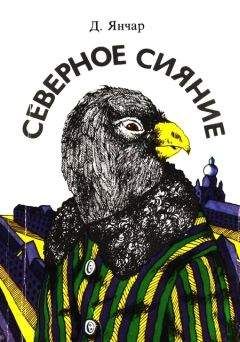Серена Витале - Пуговица Пушкина
То, что происходило на глазах Дантеса — отстраненных, невыразительных, бледно-голубых — напоминало ему истории из книг, о которых он только слышал: «Бедняга Платонов был три недели в ужасном состоянии — так влюбился в княгиню Б., что заперся дома и не хотел никого видеть, даже своих родственников… Он отказывается говорить со своими братом и сестрой. Он говорит, что очень болен; такое поведение неглупого молодого человека просто поразительно, потому что он влюблен так, как, говорят, это происходит у героев романов. Авторов последних я хорошо понимаю, надо же чем-то заполнить страницы, но это странно для человека, обладающего здравым смыслом; я надеюсь, он скоро положит конец этой глупости и вернется к нам, я без него очень скучаю». Осторожный и разумный Дантес не подозревал, что вскоре сам вступит в эксцентричное братство «бедняг», безумно влюбленных, как герои романов, — сам окажется в романе, таком же напряженном и с таким же кровавым концом, как и любой роман, написанный в его любимой и далекой Франции.
В конце декабря Жорж Дантес наконец смог уведомить Якоба Геккерена о своем полном выздоровлении: «Теперь, благодарение Богу, я совсем не страдаю. Да, я закутан во фланель, как женщина, выздоравливающая после родов, но в этом есть двойное преимущество сохранения тепла и заполнения пространства под одеждой, которая висит на мне как мешок из-за того, что я так страшно похудел. В этом письме я предлагаю тебе отчет о моей теперешней жизни: я каждый день ем дома, мой слуга договорился с поваром Панина, и мне присылают очень хорошие и обильные обеды и ужины за шесть рублей в день, и я уверен, что смена поваров идет мне на пользу, поскольку боли в желудке почти совершенно исчезли».
Но он не все говорил своему далекому другу. Он ни разу не упомянул об участившихся вечерних выходах и молчал о своих новых знакомых: Петре Валуеве, женихе Марии Вяземской, Александре и Андрее Карамзиных, Клементин и Аркадии Россетах — это все были молодые друзья Пушкина. Через них Дантес вошел в кружок поэта[7].
В полдень первого января 1836 года длинный кортеж проследовал за царем и его семьей к церкви Зимнего дворца для торжественного новогоднего богослужения. Час спустя царица Александра Федоровна в сопровождении Литты, обер-камергера, и Воронцова-Дашкова, государственного секретаря, в строгом иерархическом порядке принимала поздравления гостей: статс-дамы, придворные, местные аристократки; члены Государственного совета; сенаторы, генералы, личные адъютанты; первые и вторые придворные ранги и т. д. Как камер-юнкер и чиновник IX класса Пушкин должен был среди последних пожелать монарху счастливого нового года. Позже, в тот же самый день, царь Николай I должен был отпраздновать десятую годовщину своего восшествия на престол балом-маскарадом, на который были приглашены тридцать пять тысяч человек, представляющие все сословия России. В шесть часов вечера огромные толпы начали вливаться в Зимний дворец: в Белый, Позолоченный и Концертный залы, Ротонду, Мраморный, Фельдмаршальский и Георгиевский залы, Портретную галерею, Эрмитаж и Эрмитажный театр. В девять часов, в сопровождении наследника престола и других членов императорской семьи, Николай I и его супруга прошествовали в Позолоченную залу и открыли танцы полонезом. Два часа спустя 485 счастливчиков ужинали в Эрмитажном театре, другим был предложен буфет и напитки для утоления жажды. Была почти полночь, когда Александра Федоровна, опять по-семейному, пожаловалась на легкое головокружение; императорская семья быстро удалилась, объявив вечер законченным. Наталья Николаевна Пушкина не могла остаться незамеченной даже в этом столпотворении в Зимнем дворце. Она была уже на пятом месяце беременности, но ей это нисколько не повредило; казалось, что с каждой беременностью она становилась еще красивее. Жорж Дантес не терял ее из виду даже в огромной толпе, собравшейся в Зимнем дворце.
Примерно 10 января Пушкин писал Нащокину: «Мое семейство умножается, растет, шумит около меня. Теперь, кажется, и на жизнь нечего роптать, и старости нечего бояться». Сначала он написал «или бояться смерти», но вечно бдительный демон самоцензуры остановил его руку, и поэт вычеркнул слова, которые проскользнули вместе с прочими, выдавая мрачные мысли, преследовавшие его. Он продолжал радостный гимн семейному счастью: «Холостяку в свете скучно: ему досадно видеть новые, молодые поколения; один отец семейства смотрит без зависти на молодость, его окружающую. Из этого следует, что мы хорошо сделали, что женились».
В литературных кругах и среди близких друзей Пушкина было известно, что поэт начинает выпускать ежеквартальное литературное издание «вроде английского Quarterly Review». Дантес немного выучил русский язык и теперь отваживался на неуклюжую игру слов на этом трудном языке. Однажды (у Карамзиных, у Вяземских?) он сказал Пушкину: «Почему бы не назвать ваш журнал „Квартальный надзиратель“?» Поэт ответил неловкой улыбкой, почти гримасой. Игра слов «квартальный» и «ежеквартальный» поразила его грубостью и двусмысленностью. Не высмеивал ли Дантес домашнего жандарма, неустанного цербера Натальи Николаевны?
Дантес Геккерену, Петербург, 20 января 1836 года: «Мой дорогой друг, я чувствую себя виноватым, не ответив сразу на два твоих прелестных и забавных письма, но, понимаешь, последние две недели моя жизнь состояла из танцевальных ночей, утренних прогулок верхом и дневного короткого сна, и все это еще будет продолжаться, но что хуже всего, я безумно влюблен! Да, безумно, потому что я не знаю, что делать, не могу сказать тебе, кто она, потому что письмо может попасть в другие руки, но вспомни самое восхитительное создание в Петербурге, и ты будешь знать ее имя, но самое ужасное в этой ситуации то, что она тоже любит меня, но мы не можем видеться, потому что ее муж — человек буйной ревности. Я доверяю все это тебе, мой дорогой, как моему лучшему другу, поскольку я знаю, что ты разделишь мою боль, но, ради Бога, не говори никому ни слова и не спрашивай, за кем я ухаживаю, ты можешь неосторожно погубить ее, и я буду безутешен, потому что, видишь ли, я готов на все, чтобы сделать ей приятное, потому что жизнь, которую я последнее время веду, стала постоянным мучением: любить и быть в состоянии сказать об этом только между ритурнелями кадрили — ужасная вещь; возможно, я не прав, рассказывая все это тебе, и ты сочтешь это глупостью, но мое сердце настолько полно, что мне нужно немного его облегчить. Я уверен, ты простишь мне это безумие, потому что я признаю, что это безумие, но я не могу рассуждать разумно, хотя в этом и нуждаюсь, ведь эта любовь отравляет мне жизнь; но, будь уверен, я осторожен, настолько осторожен, что пока все это секрет, ее и мой… Я повторяю, ни слова Брею, поскольку он пишет в Петербург, и одно лишь слово от него к его бывшей „жене“, и мы оба пропали! Потому что одному Богу известно, что может случиться, поэтому, дорогой друг, я считаю дни до твоего возвращения, и эти четыре месяца покажутся мне столетиями, потому что любому в моем положении отчаянно нужен кто-то, кого он любит, кому он может открыть свое сердце и искать утешения. Вот почему я кажусь таким несчастным, поскольку никогда в жизни я не чувствовал себя лучше физически, но голова моя в таком беспорядке, что я не могу найти ни минуты покоя ни днем, ни ночью, что и придает мне этот грустный и больной вид. Единственный подарок, который я прошу привести мне из Парижа, — перчатки и носки из filoselle, это ткань из шелка и шерсти, очень теплый и приятный материал, который, я думаю, стоит недорого, а если не так, считай, что этой просьбы не было. Что до ткани, я не думаю, что в этом есть смысл: шинель я смогу носить до тех пор, когда мы вместе поедем во Францию, что до мундира, то разница будет столь незначительна, что не стоит усилий… Прощай, мой милый друг, прости мне эту новую страсть, ведь я также люблю тебя от всего сердца».
Якоб ван Геккерен никогда не ревновал Жоржа Дантеса. Напротив, это молодой человек при случае высказывал свои подозрения и предчувствия: «Газеты сообщают, что в Италии холеры почти нет, может, ты поедешь туда, где глаза большие и темные, а у тебя такое мягкое сердце». Также Геккерен никогда не реагировал на любовные дела своего подопечного: «дамы вырывали его одна у другой», и страстный кавалергард всегда извлекал эротическое преимущество из своих чар; это казалось лишь естественным, в порядке вещей. Посланник не возражал против долгой связи Дантеса с одной замужней женщиной — «женой» в их частном лексиконе. И когда в ноябре 1835 года Жорж сообщил ему, что собирается бросить свою любовницу, он не был удивлен: он знал, что Дантес был ненасытным и непостоянным дамским угодником. Далекий от того, чтобы что-то скрывать, Дантес напротив обожал рассказывать о своих победах, прошлых и настоящих: «Скажи Альфонсу, чтобы он показал тебе мою последнюю пассию, и скажи, хорош ли у меня вкус и нельзя ли с такой девушкой не забыть заповедь иметь дело только с замужними женщинами». Барон Геккерен уже подыскивал среди русской, французской и немецкой аристократии подходящую для Жоржа партию, девушку с именем и состоянием, чтобы однажды кавалергард и старый посланник могли уйти в отставку с военной и дипломатической службы и провести остаток жизни вместе, «так сказать, одной семьей».