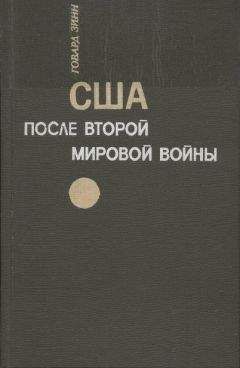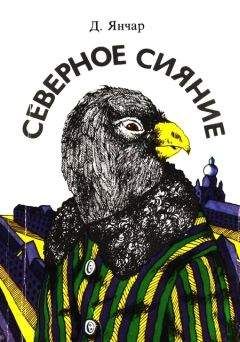Серена Витале - Пуговица Пушкина
Якоб ван Геккерен никогда не ревновал Жоржа Дантеса. Напротив, это молодой человек при случае высказывал свои подозрения и предчувствия: «Газеты сообщают, что в Италии холеры почти нет, может, ты поедешь туда, где глаза большие и темные, а у тебя такое мягкое сердце». Также Геккерен никогда не реагировал на любовные дела своего подопечного: «дамы вырывали его одна у другой», и страстный кавалергард всегда извлекал эротическое преимущество из своих чар; это казалось лишь естественным, в порядке вещей. Посланник не возражал против долгой связи Дантеса с одной замужней женщиной — «женой» в их частном лексиконе. И когда в ноябре 1835 года Жорж сообщил ему, что собирается бросить свою любовницу, он не был удивлен: он знал, что Дантес был ненасытным и непостоянным дамским угодником. Далекий от того, чтобы что-то скрывать, Дантес напротив обожал рассказывать о своих победах, прошлых и настоящих: «Скажи Альфонсу, чтобы он показал тебе мою последнюю пассию, и скажи, хорош ли у меня вкус и нельзя ли с такой девушкой не забыть заповедь иметь дело только с замужними женщинами». Барон Геккерен уже подыскивал среди русской, французской и немецкой аристократии подходящую для Жоржа партию, девушку с именем и состоянием, чтобы однажды кавалергард и старый посланник могли уйти в отставку с военной и дипломатической службы и провести остаток жизни вместе, «так сказать, одной семьей».
Получив взволнованное признание Дантеса, посланник предположил, что это еще один пожарчик, обреченный погаснуть в объятиях еще одной «жены». Он знал, каким настойчивым может быть его Жорж, а также был хорошо знаком с сомнительной добродетелью петербургских дам. Последнее «безумие» должно было вскоре закончиться банальным адюльтером, что удовлетворит чувства молодого человека и на что общество обычно согласно закрывать один или оба глаза. Однако на этот раз неутомимый офицер, который обычно выискивал добычу в театральных кулисах, выбрал своей целью одну из самых красивых женщин Петербурга — женщину, к чарам которой не остался равнодушным сам царь.
Селедка и икра
Красота следовала за ней, как лучистая тень, и неслись впереди неизменные эпитеты: «пригожая жена», «красавица-жена», «прекрасная хозяйка», «прекрасная Натали», «несравненная красавица», «очень милое творение». Никто не называл Наталью Николаевну Гончарову-Пушкину просто Натали. Казалось, другие женщины меркли в свете ее очарования, и люди, лишь слышавшие о ней, спешили подойти к ней ближе и разглядеть, стараясь узнать, правдиво ли превосходство, приписываемое ей салонами Петербурга. Действительно ли она самая красивая, красивее, чем Елена Завадовская, Надежда Соллогуб, София Урусова, Эмилия Мусина-Пушкина, Аврора Шернваль фон Валлен? Из всех сравнений она неизменно выходила победительницей. В Петербурге не было ни одного молодого человека, который бы тайно не вздыхал о ней. Ее ослепительная красота в сочетании с магическим именем, которое она носила, кружила все головы. Молодые люди, которые не только не знали ее лично, но и видели ее только на расстоянии, всерьез были уверены, что влюблены. Высокая, «стройная, как пальма», роскошное белоснежное декольте, невозможно тонкая талия, стройная шея, изваянная головка, «как лилия на стебле», лицо совершенного овала цвета бледной слоновой кости. Тонкие черты классического совершенства, брови, как черный бархат, длинные ресницы такие же темные, как волосы, которые она носила зачесанными назад или свободно падающими на шею, «подобно прекрасной камее», с завитками у висков. Во взгляде ее была «какая-то неопределенность» из-за легкого косоглазия, возможно, результата близорукости, и прозрачные, меняющие свой цвет — зеленые, серые или ореховые — глаза, напоминавшие ягоды крыжовника. Это легкое несовершенство только подчеркивало очарование лица, которое было все грация и гармония, возвышенная симфония линий и форм.
«Маленькая Гончарова была восхитительна в роли сестры Дидоны» на балу, устроенном Дмитрием Владимировичем Голицыным, генерал-губернатором Москвы во время визита императорской семьи в бывшую столицу в рождественские праздники 1829 года. Самая юная из сестер Гончаровых выступила их tableau vivant, чтобы получить поздравления царя; 18 февраля, в день, когда она вышла замуж за самого знаменитого российского поэта, она появилась в живых картинах как Венера, Психея, Мадонна, Ангел, Муза, Богиня, Евтерпа. Любая одежда, окутывающая ее стройное тело (куда эта женщина девает свою пищу? — часто удивлялись между прочим ее завистницы), оставляла непреходящее впечатление в памяти видевших ее: «платье из черного атласа, доходящее до горла», «голубая бархатная шуба», «белое платье, круглая шляпа и на плечах красная шаль», «костюм жрицы солнца», «свободный черный халат», который она носила дома, ее «боа», которое ласкал Пушкин у постели своей больной матери. Даже наблюдатель-мужчина, романтический маринист Айвазовский описал ее с обилием деталей, достойных женского модного журнала: «изящное белое платье, бархатный черный корсаж с переплетенными черными тесемками, большая палевая соломенная шляпа. Большие белые перчатки».
Прелесть ее черт, красота ее форм, элегантность ее нарядов затмевали все другие впечатления у тех, кто знал и регулярно посещал Наталью Николаевну. Немногим удавалось видеть ее самое за великолепной драпировкой, еще меньше осталось записей ее слов: «Ах, Пушкин, как ты надоел мне со своими стихами!.. Пожалуйста, продолжайте чтение, а я пойду посмотрю мои платья», «Читай, читай, я все равно не слушаю». Но все это ненадежные свидетели, их память омрачена посмертной злобой. Для наших ушей Наталья Николаевна нема. Любая попытка услышать ее настоящий голос натыкается на плюшевый барьер тишины. Ее письма к Пушкину исчезли; мы даже не знаем, сколько их было. Возможно, она сама их уничтожила как знак болезненного прошлого, а возможно, они существуют до сих пор, забытые среди прочих старых бумаг в семейном архиве какого-нибудь знатного европейского дома. Все, что осталось, — это отклики и вспышки мужа, поскольку Натали писала ему о своем собственном здоровье и здоровье детей, сообщала ему о слугах (которыми ей было сложно управлять в первые годы замужества), жаловалась на вечную нехватку денег, болтала о свадьбах и помолвках, пересказывала мелкие столичные сплетни и описывала балы и вечеринки, наряды и лица своих соперниц. Все это было привычным в том эпистолярном кодексе ее времени и класса: ее письма не отличались от тысяч писем тысяч других петербургских женщин. И никакого намека на то, что происходило в глубине ее души; ничего, что подсказало бы нам, что на самом деле Красавица думала о Чудовище, каким Венера видела Вулкана. Ничего, кроме ревности.
Натали одержимо подозревала, что муж ей неверен (и не без причины); и Пушкин убеждал ее в своей невиновности: «Как я хорошо веду себя! как ты была бы мной довольна! за барышнями не ухаживаю, смотрительшей не щиплю, с калмычками не кокетничаю — и на днях отказался от башкирки, несмотря на любопытство, очень простительное путешественнику; за Соллогуб я не ухаживаю, вот те Христос; и за Смирновой тоже». Снова и снова поэт, вероятно, чувствует изящную ручку своего ангела, тяжело опускающуюся на его особу, и довольно посмеивается, рассказывая друзьям об этих ударах. Униженная богиня любви дает волю своей боли и презрению? Или своим капризам? Кто может сказать? Мы знаем все, что только можно, о ее очаровательном теле, все подробности ее несравненного очарования, но все, что мы можем сделать, — это предполагать, когда дело касается того, что смущало ее сердце, и основывать свои предположения на словах других — написанных ей ее мужем или приписываемых ей Дантесом в его признаниях Геккерену. Этот рок останется с ней навсегда — безгласный образ, онемевшая красавица.
Иногда мы даже удивляемся, испытывала ли она другие чувства и эмоции, чем те, которые любовно приписывали ей два человека, для которых она стала яблоком смертельного раздора. Мы знаем в подробностях только об одной страсти Натали: о ее любви к танцам, которая гасила ее внутреннюю робость и познакомила ее с летучими радостями салонного веселья — нечто вроде головокружения, заставляющего говорить бесчисленные бессмысленные очаровательные вещи; временная лихорадка, вызванная музыкой, светом, хаосом, толпой, эйфорией, — и увядающая при малейшем признаке мысли, и обреченная с первыми лучами рассвета.
Вот роковой вопрос: почему она в конце концов приняла неоднократные, беспокойные, настоятельные предложения Пушкина — вечно безденежного поэта, еретика и смутьяна, чьи черты напоминали «хитрое и сообразительное маленькое животное», обитающее в Африке? Он не мог предложить ей ни богатства, ни титула. Ни даже перспектив спокойного будущего. Может быть, ее мать была полна решимости выдать дочь замуж за первого, показавшегося на ее жадном горизонте? Было ли это тщеславие Натали, ее желание носить имя человека, чья слава достигла всех уголков России? Возможно, страстное желание покинуть мрачную гнетущую атмосферу московского дома ее семьи? Или, может быть, сочетание всех этих факторов, окрашенное смутным чувством, более напоминающим страх, чем любовь? Конечно же, не страх остаться старой девой — поскольку она была самой красивой невестой Москвы — но благоговение и ужас перед чем-то неведомым, переполнившие ее, заставили принять решение: судьба, власть, страсть, поэзия.