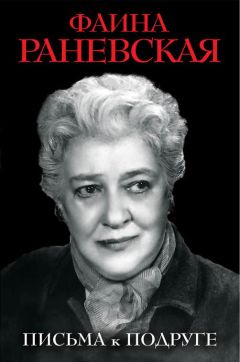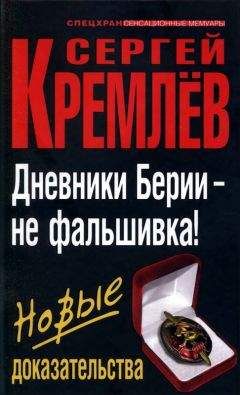Фаина Баазова - ПРОКАЖЕННЫЕ
Мы с Датико воровски вышли из дому и направились к ближайшей остановке. Скоро подошел почти пустой трамвай, и мы поехали на вокзал.
На вокзале все залы ожидания до отказа переполнены пассажирами. Многие спят на ящиках или мешках, набитых фруктами и овощами.
Выбираю место, где особенно много крестьян с мешками, и усаживаюсь на своем маленьком чемодане. Датико пошел выяснить возможность получения билета. Касса была заперта. Дежурный по вокзалу сказал ему, что о получении плацкарты до Москвы, даже в жестком вагоне, и речи быть не может. Тогда Датико решил прибегнуть к своему испытанному методу – договориться непосредственно с кондуктором.
Поезд прибыл без опоздания. Мы выходим на перрон и направляемся к последним плацкартным вагонам.
У каждого вагона толпятся люди, среди них много безбилетников.
Проходя по перрону, Датико выбирает одного кондуктора и делает ему какие-то знаки. Тот, пропустив пассажиров с билетами и отогнав дальше безбилетников, кивнул в нашу сторону.
Кондуктор – армянин, и Датико с ним объясняется по-армянски. Я не понимаю ни слова из их разговора. У меня не хватает терпения, и я обращаюсь к нему по-русски – сколько он хочет. На ломанном русском языке он потребовал с меня за верхнюю полку в своем служебном купе сумму, вдвое превышающую стоимость проезда до Москвы в международном вагоне. По понятиям тех дней, сумма была чудовищной. Он, видимо, профессиональным чутьем угадал, что меня гонит какая-то крайняя необходимость, и, конечно, не преминул воспользоваться этим. Я говорю "хорошо" и вхожу в вагон.
До отхода поезда Датико еще успел сбегать через длинный перрон в ресторан и принес мне пару бутылок "Боржома".
После отхода поезда кондуктор принес мне постель, но денег за это уже не взял. Я забралась на свою верхнюю полку и, как затравленный зверь, съежилась в уголке.
Неожиданное мое появление в Москве вывело Меера из состояния апатии, в котором я оставила его перед отъездом в Тбилиси. Он так обрадовался мне, как будто в самом деле я вернулась "оттуда". По словам Доци, он не сомневался, что меня оставили "там". Он перестал разговаривать с окружающими, перестал есть и все дни напролет сидел угрюмый, обхватив голову руками. Состояние его было настолько тяжелым, что жена вынуждена была вызвать участкового врача, который дал ему бюллетень на две недели. Теперь он ухватился за меня и не хотел ни на минуту расставаться. Целыми днями мы были вместе (пока поздно вечером я не уезжала ночевать к родственникам Доци на окраину Москвы), как будто я была последней нитью, соединяющей его с жизнью, символом всего того дорогого и святого для него, что сейчас было заточено, обречено на мученичество и нечеловеческие пытки.
Мы вдвоем как будто затерялись в огромном мире, теперь далеком и чуждом нам. Мы одинаково сгибались под тяжестью одного и того же горя. Поэтому в те дни так трудно было нам расстаться, и мы старались поддержать друг друга.
В течение августа муж раза два приезжал из Ленинграда и всячески старался нас утешить и подкрепить. В конце августа, решив, что опасность для меня уже миновала, он настоял на моем возвращении в Ленинград.
И там, обреченная логикой вещей на полную бездеятельность и оставшись наедине со своим горем, я оказалась целиком во власти отчаяния. В Тбилиси меня заставляла держаться жалость к маме и сестре, а в Москве к Мееру. А теперь, зарывшись в подушки, я рыдала часами. Началась бессонница. Ночами сидела я у открытого окна моей комнаты и глядела в уже потемневшие и сырые ленинградские ночи. Возбужденное воображение рисовало мне картины пыток, которым сейчас подвергаются папа, Герцель, Хаим: тушение горящих папирос на теле, подвешивание, избиение до перелома костей, голод, жажда – обо всем этом тайком рассказывали в Тбилиси доверяющие друг другу люди. Хотелось вопить и кричать, чтобы заглушить эту нестерпимую душевную боль. Иногда мне кажется, что мне было бы легче, если бы взяли меня. Там, наверное, тупеешь, перестаешь думать о близких, оборваны все сердечные нити, ты свободен от всяких забот и обязанностей. Такое освобождающее блаженство, очевидно, выкупается собственной обреченностью. А тебе надо выносить страдания за их страдания, постоянно думать, что ты должна что-то делать – действовать, прошибать стены головой и добиваться их спасения, задыхаться от бессилия, – и оставаться обреченной на бездействие из соображений собственной безопасности.
Я почти не выходила из своей комнаты. Ни с кем из друзей и близких мужа не встречалась. На все их вопросы: "Где пропадает твоя жена?" – следовал один и тот же ответ: "Она больна".
Настали "Ямим-нораим"[1]. Ни я, ни братья не были религиозными, как и все наше поколение, выросшее в условиях советской действительности. В семье соблюдались все еврейские праздники по всем правилам Торы, но в основе нашего отношения ко всем еврейским обрядам лежала не религиозность, а любовь и уважение к родным, уважение к традициям еврейского народа, к его национальному духу, к его стремлению утвердить свою национальную самобытность.
В детстве отец часто брал меня на праздники в синагогу, и в памяти моей навсегда запечатлелись и образ молящегося отца, и вся молитвенная обстановка синагоги.
Став взрослой, я также бывала в синагоге, но не для того, чтобы молиться, а чтобы послушать выступления отца, или в день Йом-Киппур Кол-Нидре какого-нибудь известного кантора в ашкеназийской синагоге (такие часто приезжали в Тбилиси из разных городов России), или в Рош ха-Шана отвести домой маму, которая в эти праздники молилась в ашкеназийской синагоге, а не в сефардской, где бывал отец.
Перед заходом солнца, в канун Йом-Киппур, я зажгла в своей комнате высокие свечи, оделась, вышла на улицу, взяла такси, поехала в синагогу. Но на этот раз меня повело туда не желание послушать хорошего кантора, а непреодолимая потребность окунуться и раствориться в синагогальной атмосфере.
Когда я пришла в синагогу, там уже шла молитва. Я вошла в мужской зал и стала в углу. Места были заняты примерно на две трети. Почти все молящиеся – или старики, или очень пожилые. Молодых не было совсем.
Я стояла и слушала кантора, которого в моем воображении постепенно стал вытеснять образ отца. Мне казалось, что он своим неповторимым волшебным голосом обращает мольбы к Всевышнему. Чувствую, как слезы ручьем текут по моему лицу, и я молюсь, молюсь за него, за всех… И мне кажется, что на душе становится легче.
Некоторые из молящихся с удивлением поглядывают на меня, но никто не посмел спросить, кто я и отчего так горько плачу…
Удивились и в семье моего мужа. Те, кто тогда жил в Ленинграде, легко поймут, что мое поведение должно было казаться диким подавляющему большинству людей.
Прошел октябрь, потом ноябрь. За это время всего раза два мы получили короткие сообщения из Тбилиси о том, что там без перемен.
В начале декабря мне сообщили, что на все жалобы по поводу судьбы Герцеля мама наконец получила официальный ответ: "Ваш сын осужден на десять лет и сослан без права переписки". Выходило: Герцель осужден отдельно от отца и Хаима, дело которых находится в стадии "следствия".
Это известие сразу вывело меня из состояния апатии, я решила выехать в Москву и добиваться отмены решения органов, хотя бы ценой жизни. Мне казалось немыслимым, что, жертвуя абсолютно всем, я окажусь не в состоянии установить невиновность Герцеля. Я была уверена, что произошла страшная ошибка, и бороться за ее исправление стало единственным смыслом моей жизни.
Знала, конечно, я, сколько друзей, сколько близких и далеких замечательных людей унесла с собою буря, бушующая в Грузии вот уже два года. Тем не менее я не могла мириться с мыслью, что невозможно будет спасти Герцеля, если не бросить на весы собственную жизнь. Тогда она казалась мне огромной ценностью, могущей выкупить невиновность Герцеля. Я еще не понимала, что машина руководствуется не разумом, а безумием, не логикой, а абсурдностью. Мир не казался мне полностью опрокинутым. К этому приходишь постепенно, не сразу.
Я бросила вызов судьбе – или погибнуть, или спасти Герцеля. О, глупая, наивная молодость, о, жалкая, ничтожная человеческая жизнь!
В Москве я оказалась среди людей, которые находились по эту сторону проволочного заграждения, и, вооруженная лишь безысходным горем и слезами, пыталась достучаться в Ворота Справедливости. Боже! Сколько народу, какие длинные очереди в приемную прокуратуры СССР, Военную прокуратуру, Верховный суд СССР, в Управление ГУЛАГа!
По огромному двору приемной прокуратуры СССР, на Пушкинской улице, 15-а, людская очередь, растянувшись в несколько кругов, выходит из ворот и продолжается вдоль всей Пушкинской улицы, беря начало внизу, у самой площади. А сколько таких, которые где-то прячутся до приближения их очереди, и поэтому все время кажется, что очередь как бы застыла на месте и не движется.