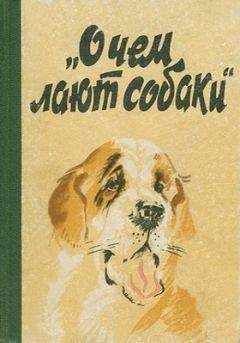Яцек Денель - Сатурн. Мрачные картины из жизни мужчин рода Гойя
И чего он ей только не рассказывал! Что в Риме жил у какого-то поляка вместе с сумасшедшим итальянцем, который для денег рисовал развалины, а для души – тюрьмы и который, когда в кармане было пусто, подрабатывал как уличный акробат; а через поляка он-де познакомился с таинственным россиянином, тайным советником двора, который Христом Богом умолял его поехать вместе с ним в его морозную отчизну и стать там живописцем кровавых российских императоров, облаченных в парчу и меха и питающихся исключительно сырым мясом.
Надо было видеть и слышать, как он, развалившись в кресле, строит мины, хлопает себя по ляжкам, как возбуждается от рассказа, начинает говорить все громче и громче, переходя чуть ли не на крик, как решительно игнорирует меня, не глядя порой в мою сторону битый час (проверено с часами в руке), как пускает в ход неприличные словечки, которых я бы никогда не произнес в обществе женщины, тем более своей жены. И конца этому не было. И еще: никогда не упускал возможности уязвить меня или припомнить, что всем, что у меня есть, я обязан ему и только ему.
«Взбираюсь я, значит, на самую верхотуру купола Святого Петра, продвигаюсь, согнувшись, вот так, бочком-бочком, а там все уже и уже, а внизу – пропасть, поскользнешься – мокрое пятно от тебя на мраморных плитах останется, но, когда человек молод, ему все нипочем… хотя, поди, не всем… не представляю, чтоб твой сладчайший Брюханчик рискнул… не знаю, собирается ли он вообще поехать в Италию, я ведь не зря передал королю все «доски»[36] к «Капричос» взамен на пожизненный пенсион для Хавьерека, теперь он может путешествовать и учиться, сколько душе заблагорассудится… ладно, не важно… короче, лезу я выше, а тут голубь крыльями хлопает, я увертываюсь, а из кармана сольдо выскальзывает и летит с этой высотищи вниз! Летит, летит, а звяканья так и не слышно. Что ж, поделом мне! А там, внизу, какой-нибудь паралитик нищенствующий тут же, поди, на ноги вскакивает и гонится за ним по всей базилике. На здоровье, думаю я себе, опрокинь стаканчик, чтоб я отсюда живьем слез. Наконец-то забираюсь на самый-самый верх, вытаскиваю из кармана штихель[37] и царапаю: Fran. Goya. И если ты, моя дорогая деточка, когда-нибудь задумывалась, чья же это фамилия значится на верху самой высокой постройки всего христианского и языческого мира, то скажу тебе скромно: фамилия твоего свекра, который написал в своей жизни парочку-другую картин, подарил вам вот этот дом, а сейчас сидит подле тебя и как ни в чем не бывало попивает шоколад».
А уже через минуту расписывает, как поехал в Рим с тореадорами, а те научили его самым что ни есть секретным секретам корриды, и вот он уже бросается к стулу, велит мне его поднять и изображать из себя быка, чтоб он, с кочергой в руке, мог показать, какие фортели выкидывал на арене во времена своей молодости. И в очередной раз не преминет вспомнить, как я в четыре года испугался лягушки, и тогда-то он понял, что никогда не бывать мне тореадором. А чуть позднее Гумерсинда уже слушает, как он по уши влюбился в юную монашенку и решил похитить ее из монастыря – приобрел прочную веревку и, взобравшись на стену, чуть было не обвел вокруг пальца сторожей, но дочь веревочных дел мастера оказалась настолько обворожительной, что он простил себе увлечение монашенкой.
«Полночь? Ой, и правда! – лицемерно удивлялся он, когда я писал ему, что Гумерсинда еле держится на ногах и, наверное, нуждается в отдыхе. – Ну и засиделся же я у вас, дети»! Тяжело сопя, он вставал с кресла и, глядя из-подо лба, будто я нарушил священный закон гостеприимства, неспешно выходил – затем только, чтоб назавтра заявиться в очередной раз и в очередной раз сочинять небылицы: о горделивой Тиране, о герцогах и герцогинях, об экипажах и охоте, о том, сколько дроздов он подстрелил тут, а сколько зайцев – там, и о том, что по сей день во всем Мадриде мало кто может сравниться с ним в стрельбе с двухсот шагов. Ну и что с ним сделаешь?!
Говорит ФрансискоНе скажу, что мне становилось досадно, когда миловидная девушка, затаив дыхание, слушала меня и смеялась над моими шутками. А ведь у Гумерсинды был выбор: муж – молодой, замечу, красивый, по тем временам еще не так оплыл, похож на меня в молодости, – и тесть – старый хрыч, глухой, завален работой, который уже давно распрощался со своим костюмом махо и сладостной привычкой просиживать в тавернах за стаканчиком вина аж до самого утра, но в котором сидело нечто такое, отчего у дамочек по ногам текло. И чего уж тут скрывать: я знал, что ей нравлюсь, хоть все, ясное дело, было совершенно невинно; я б в жизни не попрал законов божеских и человеческих. Чего ради? Чтоб облапить?
Жалко мне было, по-человечески жалко было эту молоденькую семнадцатилетнюю девицу, чуть ли не ребенка, весь день под замком в большом доме, без развлечений, с мужем-молчальником. «Послушай, – говорил я ему, порой даже при ней, чтоб пристыдить, – куда это годится, чтоб свекр оказывал своей невестке больше нежности, чем муж жене». А он только по-идиотски огрызался: «Вот именно, куда это годится?» – и выходил надутый. «Кончится тем, – подшучивал я над ним, – что твой первородный скорее на деда будет похож, чем на отца». А он снова надувал губы и – из дома вон. Я делал все, что мог, чтоб облегчить ей жизнь. От чистого сердца. Не совру, что не услаждала меня мысль, мол, захоти я, она бы, долго не раздумывая, стала моей. Я еще в дом не вошел, а она уже вся сияющая: «Что вам, папенька, подать? Чем вас, папенька, угостить?», и тут же то с шоколадом летит, то с разогретым обедом, если я проголодался во время работы; сроду не позовет прислугу, всегда сама приносит. Сокровище, а не девица, а тут Хавьер мой, стыдно признаться, – увечный какой-то. Не было счастья, да несчастье помогло: смастерил-таки он ей ребеночка, живот у нее вздулся, сделалась она капризной, как оно с брюхатыми происходит, и стала еще красивее. «Ого-го, – отзываюсь я, – старые бабы в Фуэндетодосе поговаривали: коль чреватая хорошеет, значит, парня носит, а коль дурнеет, значит – девку. Отсюда прихожу к заключению, что подаришь мне внука, а не внучку!» А она только улыбается, так робко – эх, сама сладость!
Говорит ХавьерС того времени, как она понесла, отец появлялся у нас не каждый день, а два раза на дню – и как у него еще оставалось время стоять у холста?! В общем, переселился он к нам, да и мать тоже. Мы предоставили им спальни – ему отдельно и ей отдельно, в третьей комнате он поставил себе мольберт, перенес туда рулоны полотна, подрамники, пигменты и краски – и с тех пор мы уже никогда не чувствовали здесь себя хозяевами. А все потому, что ему хотелось погреться в нашем тепле. Уж он и ластился, и лебезил, и ворковал – и еще вразумительнее намекал, будто я ему всем обязан.
Тогда-то я и раскусил его шуточки, дескать, внук наверняка пойдет не в отца, а в деда, сообразил, откуда у него эта невыносимая самоуверенность, зазнайство и деликатность, с какой он клал руку на живот Гумерсинды. Сколько раз бывало, что, когда он приходил к нам, я тут же приискивал себе занятие в городе, хватал на лету шляпу и исчезал за порогом? Разве мало подвернулось случаев, чтоб положить на нее свои лапищи, внезапно осенило меня, пустить в дело силу своего убеждения, штучки, опробованные на натурщицах и герцогинях, на городских дамах и крестьянках, каких и сосчитать-то невозможно? А все эти хихоньки да хаханьки, а умение строить глазки и вставлять колено меж ног?
И эта страшная правда пробила тропку в глубь моего сердца – так мушкетная пуля прошивает арбузную мякоть, так винт железного сапога впивается в пятку маррана[38] под пытками. Теперь я иначе стал присматриваться к каждому его жесту, к каждому ее взгляду, а по вечерам изводил себя: почему она не идет спать, а слушает бредни о бое быков, об обычаях монархов и чудачествах герцогини Альбы – вежливость наказует или тут нечто большее? Амуры, любовный заговор?
Но кому расскажешь о своих подозрениях? Самому себе и то не так просто, а что говорить о других? Пожалуй, только прибрежному тростнику, или камню, или ложке. Предметам кротким. Вот я и ходил по дому из угла в угол, не находя себе места; случалось, вполголоса открывал свою душу книгам и табуреткам, подушке и подсвечнику. Хотел обратиться к духовнику, но кто же исповедуется в чужих грехах? Можно, от силы, – в ошибочности своих подозрений. Но я знать не знал, ошибочны они или вовсе наоборот – до жути верны. Ни дом, ни город, ни луга и леса за городом, куда я выбирался на долгие прогулки верхом, не могли мне ничего прояснить – лето царило безраздельно, и все вокруг, словно в издевку, созревало и приносило плоды: наливные виноградные гроздья так и падали в корзины опаленных солнцем сборщиц, сливы лопались от сока, а я, выросший в Мадриде, стал там случайным гостем, переносимым ветром отчаянья с места на место.