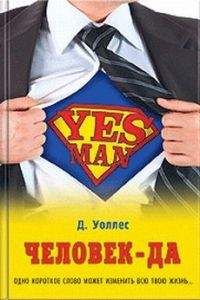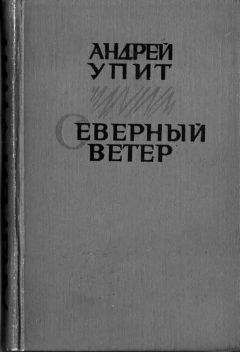Владислав Глинка - Дорогой чести
— А батюшка ваш здоров ли?
— Он нынче в Московском ополчении и Владимирскую звезду за Бородино получил… Но я имею вам и грустное сообщить.
— Что ж такое?
— В плоцком госпитале, куда я ходил, как начал из дома выбираться, чтоб наших, семеновских солдат проведать, были и офицерские палаты для тех, кто не мог на частной квартире себя содержать. И вот один ополченец просил письмо в Луки отправить…
— Сарафанчиков? — догадался Непейцын.
— Он самый. Ну, а я, слышав, что вы там после Тулы служили, и спросил, не знаком ли. Тут откуда и красноречие взялось.
— Наговорил невесть что? — улыбнулся Сергей Васильевич. — Но грустное-то где же?..
— Так умер ведь, бедняга.
— Ранен, что ли, был?
— Да нет же! И пороху не понюхал. Понос его извел. Уж мы с Никеевым и вина, и сухарей белых, и бульоны ему носили, да, видно, поздно. Воруют в госпиталях ужасно на таких скромниках да на солдатах. Никеев не стерпел — чиновника одного гошпитального прибил, когда за картами деньгами хвастаться стал.
— Федор! — позвал Непейцын. — Слышал, что Александр Васильевич рассказывал? Бедный Сарафанчиков в госпитале помер.
— Слышу-с. Жалко их очень, — отозвался Федор.
— Вот и воздаяние за патриотизм, — вздохнул Сергей Васильевич. — Сидел бы в соляном магазине и был бы цел…
— Ничего, скоро французов добьем, и с тем горе все кончится, — уверенно сказал Якушкин. — Нынче генерал от штабных слышал, что в Пруссии поголовное ополчение, из Англии оружие на кораблях привозят, порох, пушки, седла. Австрийцы уже на марше…
— Я тоже слышал, — кивнул Чичерин. — Но представьте, как сердце сжималось хоронить людей, от горячки или поноса погибших, когда могли в бою с пользой для отечества помереть.
Когда гости ушли, Федор сказал:
— Небось Михельсонов барин в ополчение не пошел.
— А ты почем знаешь? — удивился Непейцын.
— Как же-с! Через Невель когда ехал, псарей его видел, которых в солдаты сдавать прислал, таково его ругали…
Через день Якушкин привел к Сергею Васильевичу заехавшего на их бивак Паренсова, одетого во все новое — от шляпы до сапог.
— Здравствуйте, дорогой штабс-капитан! — обрадовался Сергей Васильевич. — Каким вы франтом!
— Поздравьте его капитаном, господин полковник, и с тем еще, что от отца зависеть больше не будет, — сказал Якушкин.
— Неужто батюшка ваш скончался?
— Что с ним в Костроме сделается? — отозвался Паренсов. — А, к печали моей, убили под Вязьмой двоюродного брата, офицера пехотного Вот тетка, вдова, в горе, детей более не имея, и отказала мне все, что муж ее, чиновник, наворовал, путь обогащения сейчас обычный. За убитых отцов дети раньше срока наследуют, после братьев сестры невестами выгодными становятся. Посоветуйте, кому мне завещать, чтоб папеньке не досталось?
— Ну, зачем так мрачно? — возразил Непейцын — Лучше расскажите, что о друге моем Егоре Ивановиче слышали?
— У него все ладно, а вот в другой бригаде ихней дивизии противное совести случилось… У вас-то в гвардии, на глазах государя, и поставка продовольствия порядочная, а там на неделе шестерых солдат расстреляли за грабеж. Свели корову — да в котел. Скота месяц не пригоняли, на каше да на сухарях люди измаялись. Благородно выражаясь — оборотный лик войны… А один из казненных, заслуженный унтер, кавалер знака отличия, все повторял, что не для себя, для роты радел… Словом, с тех пор никак не разберусь, кого расстреливать нужно, — закончил Паренсов.
Якушкин слегка откашлялся и продекламировал:
Wie die Feuerflamme bei dunkler Nacht
In die Häuser fähret, wenn niemand wacht –
Da hilft keine Gegenwehr, keine Flucht,
Keine Ordnung gilt mehr und keine Zucht. –
Es sträubt sich – der Krieg hat kein Erbarmen[31]
— Опять Шиллер? — спросил Непейцын. — Переведите, Иван Дмитриевич, я по-немецки двадцать слов знаю.
Якушкин перевел и добавил:
— Поэт не воевал, а как все верно!..
— Именно Шиллер пишет, — отозвался Паренсов, — что в сих краях в Тридцатилетнюю войну население в десять раз уменьшилось.
— Вот и утешайтесь, что хоть такого теперь нет, — посоветовал Сергей Васильевич.
Вечером, раздевая барина ко сну, Федор сказал, видимо вспомнив этот разговор:
— Правда, не нашего полку а бывает, что и грабят мужиков здешних.
— От кого же знаешь?
— Намедни хозяин один жаловался — половину гусей у него перекрали. А поймал одного, так тесаком пригрозился…
— А ты чего с немцами знакомство свел? — внимательно посмотрел Сергей Васильевич. — Нет ли дочки? Эльзы какой-нибудь?
— Как в воду смотрели, Эльза и есть! — сознался Федор.
— Гляди, за нее бока крепче, чем за гуся, наломают, — сказал Непейцын. — Уймись до греха. Ты ведь тесаком не погрозишь…
* * *В конце июля Сергей Васильевич с Краснокутским поехали верхами к замку Петерсвальде, в котором во время перемирия жил император Александр. Замок был только что освобожден, и многие офицеры спешили взглянуть на его расположение, пройтись по парку, куда недавно впускали только штабных. Краснокутский не раз стоял здесь в карауле и вызвался сопровождать Непейцына. Ехали больше шагом, расстояние было невелико, а вечер красив и мягок.
— Юноши могут радоваться началу военных действий, — сказал Краснокутский, когда проехали лагерь. — Но новая схватка будет не менее ожесточенна, чем в России. Присоединение к нам Австрии говорит только, что политики не считают Наполеона способным победить… — Лошадь штабс-капитана испугалась низко пролетевшей птицы, заиграла, и он, затянув поводья, не закончил фразу.
— Но тем упорней будет он сражаться? — договорил Непейцын.
— Вот именно. Считают, что не дело офицера рассуждать, — сказал Краснокутский. — Но перед такой решающей кампанией можно ли не думать, к чему придет мир, если разобьем Наполеона.
— Как — к чему? К освобождению народов Европы от его ига и от непрерывных войн, которые он вел, — ответил Непейцын.
— Верно, — кивнул штабс-капитан. — Но разве не важно, какое правление, свергнув Наполеона, установят победители во Франции?
— Никогда не думал об том, — сознался Сергей Васильевич.
— А ведь победителям очень нужно будет, — продолжал Краснокутский, — чтобы правительство Франции не смело им перечить. Мне ясно, кто дирижировать станет в новом мировом концерте…
— Наш государь?
— Конечно. Но какую пьесу он заиграет, я пока не разберу.
— Вы в дворцовом карауле что-то новое слышали? — спросил Непейцын, стараясь угадать, что навело спутника на такие мысли.
— Слышал от нашего Трубецкого, который у генерала Барклая адъютантом, что нас разделят на три армии и во главе поставят пруссака, австрийца и шведского наследного принца — нового союзника. И хотя говорил, что сие одна дипломатия государя — для русских, мол, он славы не ищет, а только чтобы вместе Наполеона раздавить, — но мне такая «деликатность» обидной показалась.
— Еще бы! — согласился Сергей Васильевич. — Разбили-то мы его, а теперь под Блюхером и Шварценбергом ходить…
— Вот-вот… Однако тот же Трубецкой уверял, что командующие армиями всё докладывать обязаны нашему государю. Главным, выходит, будет он. А я после Аустерлица, знаете ли… Дипломат он тонкий, а полководец… — Краснокутский оглянулся вокруг.
— Не опасайтесь, — сказал Непейцын. — Лошади нас не выдадут. Но к парку ближе не поедем, пока не кончим разговор. — Он остановил своего коня, штабс-капитан сделал то же, и Сергей Васильевич продолжал: — Мне ясно, что после сотен тысяч смертей, которые Наполеон принес миру, он должен быть лишен возможности проливать кровь. А как же того добиться, если не смещением его с престола?
— Совершенно согласен, — закивал Краснокутский. — Но, понимаете, я участвую в третьей кампании и не могу запретить себе думать, какое будет ее следствие для моей родины. За обиженных пруссаков мы который раз заступаемся, а они, бедные, живут в десять раз богаче нашего… Теперь хотим во всей Европе справедливость восстановить, а своим-то что за всё разорение и кровь пролитую привезем? Не слишком ли многое напоказ, как сие назначение чужих командующих армиями, в каждой из которых львиная доля будет русских полков? Вот-с… Так тронемся, господин полковник, наконец-то в ворота и по аллее прямо к замку…
Через несколько дней перемирие окончилось, переговоры были прерваны, русские войска тронулись в Богемию, где соединились с австрийцами и оттуда пошли на Теплиц и Дрезден.
На этом переходе Непейцын присматривался к людям, впервые после ранения или болезни бывшим в строю, вникал в артельное довольствие, для которого купили и засолили в Ланг-Билау несколько бычьих туш. Да еще в первые дни похода его беспокоило здоровье Федора. В утро выступления он явился перед барином с обвязанным холстиной лицом и не говорил, а жалобно мычал.