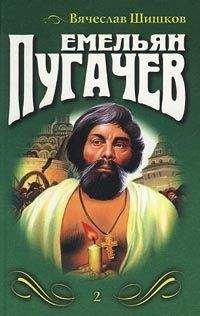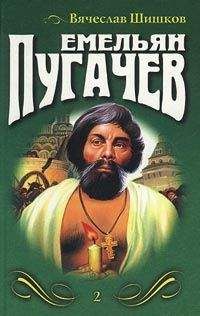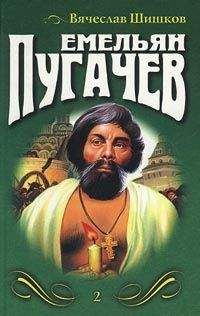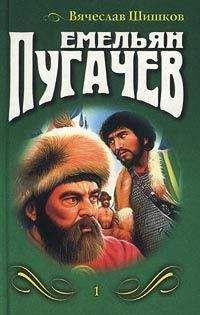Вячеслав Шишков - Емельян Пугачев (Книга 3)
Призвал барин старика Зиновия, своего бывшего пестуна. Зиновий старше барина лет на десять. В давнюю пору, когда Павел Павлыч был маленьким, они часто ходили с Зиновием и другими парнишками в лес по грибы, пугали шустрых белок, разыскивали птичьи гнезда. С тех пор так и установилась дружба между крестьянином и барином. Барин любил Зиновия, старик Зиновий любил барина.
И вот они оба закрылись в спальне, толкуют по тайности. Беседа шла к концу, оба сидели раскрасневшиеся, графинчик усыхал, но закуски вдоволь.
– Пей еще, Зиновий… И я выпью… Хоть и вредно – почечуй нутряной у меня, а для такого раза выпью. Да, да… Вот я и говорю: боюсь душегуба, пуще огня боюсь. Дурак я, что не уехал с женой-то…
– Дурак и есть, батюшка барин, Павел Павлыч, опростоволосился ты, – говорит старик.
– Ведь от душегубов никуда не денешься, ни в лес, ни в воду…
Найдут. Говорят, собаки у них есть ученые, охотничьи – бежит, нюхтит, и сразу над барином стойку…
– Что ж, батюшка барин, я в согласьи…
– Согласен? Ну, спасибо тебе, Зиновий… Значит, чуть что, ты барином срядишься, все мое парадное наденешь, а я в твою одежду мужиком выряжусь.
– Мне уж не долго жить, – утирая слезу, говорит подвыпивший Зиновий, – не жилец я на белом свете, грыжа у меня. Пущай убивают… Только, чур, уговор, барин…
– Проси, чего хочешь, ни перед чем не постою!..
– Дай ты, барин, вольную сыну моему Лексею со всем семейством, еще дай лесу доброго, чтоб хорошую избу срубил себе Лешка-то мой, да триста рублев деньгами.
Павел Павлыч с радостью обнял старика и тотчас исполнил все его условия, написал приказ о вольности его сыну, велел сколько надо лесу выдать и вручил триста рублей священнику, сказавшему, что по уходе Пугачёва деньги те священник обязуется передать старику, либо его сыну Алексею.
Зиновий на всякий случай исповедывался и причастился, а когда дозорные донесли, что Пугачёв приближается, он отслужил молебен.
Священник, благословляя его, сказал прочувствованное слово о блаженстве тех, кто душу свою полагает за других.
На следующий день, поутру, запылила дорога, раздался праздничный трезвон во все колокола, священник, страха ради, вышел с крестным ходом за село.
Сначала проехали сотни три казаков, за ними – кареты, коляски, берлины, за ними, в окружении свиты и большого конвоя, сам царь-батюшка.
Сабля, боевое седельце, конская сбруя горят на солнце, и сам он, как солнце, свет наш, отец родной. Он не слез с коня и ко кресту не приложился, только прогремел собравшимся крестьянам:
– Детушки! Верные мои крестьяне… Уж не обессудьте, не прогневайтесь, гостевать у вас не стану, дюже походом тороплюсь. Всю землю дарую вам безданно, беспошлинно, с лесами, угодьями, полями. Владейте, детушки!
– Волю, пресветлый царь, волю даруй нам, батюшка! – кричали крестьяне, махали шапками, кланялись, отбрасывали горстями свисавшие на глаза волосы:
– Волю, волю дай, слобони от помещиков!
– Чье поле, того и воля, детушки! – снова прокричал Пугачёв. – Будьте вольны отныне и до века!
Он двинулся было вперед, чтоб, миновав поместье, ехать дальше, но Чумаков сказал ему:
– Не грех было бы, батюшка, с полчасика передохнуть, закусить да выпить.
Тогда Пугачёв завернул со свитой в барский двор, в дом вошел, прошелся по горницам. На столе появилось угощение, вино, бражка. Атаманы с Пугачёвым наскоро присели, стали питаться. Пугачёв поторапливал. Макая в мед пышки, вдруг спросил:
– А где хозяева, где помещик тутошний? Повешен, что ли?
Произошло замешательство. Дворня, прислуживавшая Пугачёвцам, замерла на месте.
– Где ваш помещик?! – резко крикнул Пугачёв и хмуро взглянул на дворню.
Из соседней боковушки-горенки выступил на согнутых в коленях ногах трясущийся старый Зиновий, он одет в барский кафтан, длинные чулки, туфли с серебряными пряжками, борода аккуратно подстрижена, на голове господский парик.
– Я помещик Одышкин, твое величество, государь ампиратор. Как есть перед тобой, – низко кланяясь, сказал старик.
– Пошто навстречу ко мне не вышел? Должно, злобишься на меня?
– Занедужился, твое царское величество, – еще ниже кланяясь, продрожал голосом старец. – Вздыху не было, сердце зашлось…
– Занедужился? Так я тебя живо вылечу. Ведите во двор…
Дворня, желая спасти своего всеми любимого старика Зиновия, стала упрашивать:
– Помилуй, отец наш… Он помещик добрый. Обиды не видали от него, ни на эстолько…
– Нет во мне веры вам, – проговорил Пугачёв, подымаясь. И все атаманы поднялись. – Своих дворовых баре завсегда подкупают, задабривают. А вот мы крестьянство спросим… Мужик знает, кто на его лает… Айда!
Во дворе много народу: кто угощается, кто грузит подводы господским добром, кто седлает барских коней. Чубастый Ермилка затрубил в медный рожок, полковник Творогов зычно скомандовал:
– Казаки, на конь!
Пугачёву подвели свежего барского коня. На воротах качался в петле еще не остывший труп мирского согрубителя бурмистра. Пугачёв, занеся ногу в стремя и взглянув на удивленного мужика, приказал:
– Вздернуть барина!
Тут было много чужих крестьян, приставших к Пугачёвцам из другого уезда. Они схватили человека в барском платье, стали тащить его к виселице. Старик Зиновий, видя свой смертный час, сразу оробел: страх подступил под сердце, кровь заледенела, и он истошно закричал:
– Я не барин, я мужик, Зиновий!.. Ищите барина!..
В это время два парня и подросток волокли по двору упиравшегося Павла Павлыча Одышкина. Он в домотканине, в рваной сермяге – дыра на дыре – в лаптишках, жирное лицо запачкано сажей, обезумевшие большие глаза выпучены.
– Я не барин, я мужик!.. – вырываясь, вопил он пискливым голосом. – Эвот, эвот барин-то, кровопивец-то наш!.. Вешайте его!..
– Врет он! – вопил и Зиновий, тыча в Одышкина пальцем. – Он природный наш барин, только мужиком вырядился. Он меня обманул… Я – мужик Зиновий!.. А он – барин!.. Кого хошь, спроси…
Дальние, пришедшие за «батюшкой» крестьяне улыбались, чесали в затылках – вот так оказия… Морщины над переносицей «батюшки» множились, нарастали в грозную складку.
Из толпы было выступил местный крестьянин, намереваясь восстановить правду-истину. Но шум с перебранкой между Зиновием и барином крепли.
– Я природный мужик! – не переставая, кричал помещик.
– Ты барин!.. Вешайте его!
– Врешь, паскуда, ты барин-то! В петлю его! В петлю!
В сто глоток оглушительно заорали и местные крестьяне – ничего не разберешь. Пугачёв взмахнул рукой, сердито крикнул:
– Геть! Неколи мне тут с вами… Обоих вздернуть! – он тронул коня и, хмурый, поехал со двора долой.
Трое оставшихся казаков быстро исполнили царское повеленье. Когда вешали барина, осатаневший жирный мопс мертвой хваткой впился в ногу казака. Мопс был заколот пикой.
2
Несколько в стороне от Волги лежало обширное село, раскинувшееся на крутых зеленых берегах речушки.
На свертке с большака в селение встретила Пугачёва повалившаяся на колени перед ним толпа крестьян. Среди них – рыжебородый священник с крестом. Емельян Иваныч поздоровался с людьми, велел подняться. К нему робко подошел пожилой человек с бороденкой и косичкой, он в служилом кафтане с серебряным галуном по вороту и рукавам. Низко кланяясь и приветствуя Пугачёва, он задышливым от страха голосом проговорил:
– Оное село экономическое, сиречь живут в нем государственные, вашего величества, крестьяне. Управляющий сбежал, убоясь вашего пришествия, а я евоный писарь и правлю должность повытчика. – Он закатил глаза, облизнул сухие губы и добавил:
– Осмелюсь доложить: почитай, половина наших жителей охвачена скопческой ересью, коя имеет отсель распространение и на окольные местожительства. Об этом всякий размыслящий человек зело скорбит. Даже царствующая императрица Екатерина Алексеевна о сем указ в публикацию изволили издать.
– А ну, чего она там, не спросясь меня, указывает в указе-то своем? – подняв правую бровь, спросил Емельян Иваныч.
Писарь вытащил из-за обшлага бумагу и, откашлявшись, сказал:
– Вот копия с копии оного указа. – Он зачитал бумагу и добавил:
– Мера наказания изложена тако: «Начинщиков выдрать публично кнутом, сослать в Нерчинск вечно; тех, кто быв уговорены, других на то приводили – бить батожьем, сослать на фортификационные работы в Ригу, а оскопленных разослать на прежние жилища».
– Та-а-ак, – огребая пятерней бороду, протянул в недоуменьи Пугачёв.
– Ишь ты, ишь ты… Строгонько! Строгонько, мол… А какая такая скопческая ересь? – спросил он, ему никогда не доводилось вплотную встречаться со скопцами. – Скопидомы, что ли, они, деньги себе, что ли, скопляют всякой плутней?
– Ах, нет, ваше величество, – возразил писарь, он замигал и, напрягая неповоротливую мысль, силился, как бы поприличней изъясниться. – Чрез тяжкое усечение детородных приспособлений оные душегубы лишаются благодати продления рода христианского. Власы у них на усах и браде вылезают, а голос образуется писклявый, как у женщин. И нарицают они себя: скопцы.