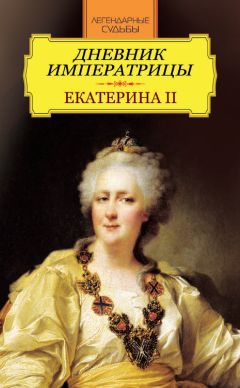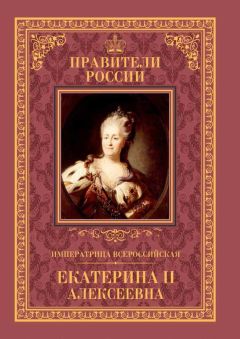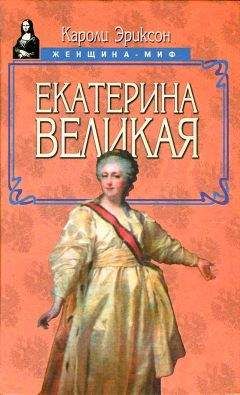Борис Поляков - Кола
– Ну, сирена! – сказал с досадою благочинный.
– Чего? – не понял Герасимов.
– Дева сказочная такая, полуптица-полудева. Так сладко пела, что человека околдовывала и он, слушая, погибал.
– Давайте все-таки дочитаем, – сказал Шешелов. – Там серьезного больше, чем кажется.
«5. В настоящее время, – продолжил Герасимов, – не предоставляется возможности в город Колу отправить пушек и воинской команды вдобавок тамошней инвалидной команде, но за всем тем я уверен, что кольские горожане с таким молодцом, как капитан Пушкарев, который к ним посылается, сделают чудеса и непременно разугомонят неприятеля, который осмелится к ним показаться.
Причем не могу умолчать, что мне весьма неприятно то, что из города Колы часто получаю пустые ябеды и беспрерывно слышу о ссорах там бывающих: в настоящее время жители города Колы должны жить по-братски, как истинные сыны Отечества и единодушно должны стараться нанести вред неприятелю, который осмелится сделать на них нападение.
Военный губернатор вице-адмирал Бойль.
Скрепил: Правитель канцелярии Логовский».
Герасимов отложил письмо, снял очки и устало потер глаза. Все молчали. Благочинный вернулся за стол, погодя сказал:
– Не простил губернатор письмо от второго марта. Я как чувствовал тогда.
Ясно было, не простил губернатор Шешелову, но благочинный будто хотел сказать: нам.
– Не простил, – Шешелов благодарно поднял на него глаза.
– Вы ведь просили тогда себе предписание?
– Да.
– И про норвегов ему писали?
– Писал.
– И он все-таки капитана, а не солдат шлет? Чтобы вас от защиты города отодвинуть? – В голосе благочинного была горечь.
– Я это тоже уразумел, – пробурчал Шешелов. – Но не в том суть.
Герасимов спрятал очки в футляр, сказал Шешелову:
– Два пуда пороху на сто ружей. Без солдат и пушек. Какая же это защита города?
– Из ста присланных пятнадцать ружей я отобрал для стрельбы непригодных. Капитан говорит – о них губернатору он докладывал.
– И велели везти?
– Привезли, – хмыкнул Шешелов.
– Чудеса.
– Это же издевательство! – благочинный смотрел на Герасимова, словно искал поддержки.
Шешелов не хотел говорить и думать про умысел. Это только начни. Зароятся мысли, самому страшно станет.
– Капитан, отдавая письмо, сказал: там ласково все написано.
– Верно, – кивнул Герасимов. – Написано гладко, ласково.
– Думаю, умысла нет. Губернатор хихикал, наверное, и потирал руки, когда отправлял обоз. Обычная дурость.
– Не думаете вы так, Иван Алексеич, – благочинный строго смотрел на Шешелова. Он проницательнее, конечно. Привычка копаться у людей в душах. Шешелов выдержал его взгляд.
– Про капитана – правда.
– А где он сейчас? – спросил Герасимов.
– В моем кабинете. Пьяный спит.
– С чего так?
– Говорит – подыхать послан. От этого, может.
– Так и сказал?
– Так. Пьяный, правда, был сильно.
– Неприятное чувство.
– Ага. – Все неприятным было. Вспомнилось, как за этим столом сидел первый раз. Они тогда предсказали ему войну. А он распинался и уверял их про помощь губернии, про то, что сам туда писать станет. Написал... Вот итог. Но что же худого он сделал своим письмом? Не о себе забота. Хотел как лучше. Губернатор свой зад не думал еще чесать, когда Шешелов о войне ему написал. Может, князю пожаловаться? Он тогда говорил ведь: «Не надо гнушаться даже мер тиранических, если касается интересов государя...»
– Трудно как все, – вздохнул Герасимов.
Шешелов оторвался от своих мыслей.
– Трудно. Какая-то горькая полоса. Невольно в судьбу поверишь.
– Тяжелая доля идет на город. На нас всех идет.
– А вам не хочется теперь что-нибудь для себя предпринять, Иван Алексеич?
– Не понял вас, – Шешелов удивленно взглянул на благочинного.
– Может, вам самое время сейчас в Санкт-Петербург уехать. И губернатор будет доволен, и спокойнее там.
– Не надо меня проверять, – усмехнулся печально Шешелов. – Уезжать я не думаю. – И признался покаянно: – Просто я растерялся. Выхода не вижу.
– Растеряешься, – сочувственно отозвался Герасимов. – Вся история Колы возвращается на круги своя. Всегда против врагов без помощи.
– Случалось и хуже, чем у нас нынче. Правда, хуже, чем в восемьсот девятом, никогда не было. – Благочинный повернулся к Шешелову. – Капитана лучше под вашей опекой держать бы. Тогда глупого шага с его стороны не будет.
Глупый шаг был городничим в Коле сделан в тысяча восемьсот девятом году. Подал англичанам шпагу, сдал город. Благочинный это в виду имеет. И он прав: мысли у Пушкарева, прямо сказать... Хорошо бы, конечно, поступки его направлять. Но капитан своенравен, занозист, самолюбив. Как к нему подступиться?
– Надежда, если придут враги, только на вас, Иван Алексеич.
– На меня?
– На вас. И воевали вы в прошлом, знаете ремесло это. – У благочинного взгляд строгий. – И власть городская у вас в руках.
– Не военная.
– А что бы вы сделали нынче на месте этого капитана? – спросил Герасимов.
Шешелов достал, наконец, трубку, набивал ее табаком. «А действительно – что?»
– Не знаю, что можно сделать без войска, без пушек, – Шешелов чуть подумал. Город будто заранее обречен. Надежда на себя только. Что бы он сделал? – Может, ученье инвалидным устроил бы. Сам осмотрел окрестности. Возможный план отражения от нападения составил. Милицию, разумеется, постарался набрать бы. Ружья роздал им. Стрельбы учебные провел с ними.
– Вот все это и скажите своему гостю.
«Это только отсрочка во времени. На случай, если придут соседи. У них, наверно, тоже оружие не из лучших. А если британцы? Французы?» И сказал Герасимову:
– Я попробую поговорить с ним.
– Поговорите. А ружья негодные нельзя починить в Коле?
– Нет, нельзя, – Шешелов встал, прикурил трубку. – Меня подмывает вернуть их опять в губернию. Составить акт о негодности и послать. В канцелярии акт пройдет регистрацию. А копию в Санкт-Петербург направить. Пусть губернатор почешет задницу.
– И при случае вам воздаст, – сказал благочинный.
– Не советуете?
– Нет, отчего же? Пусть пилюлю проглотит. – И показал на письмо. – Видели, как про пустые ябеды он хорошо пишет? Ни вашу, ни исправника жалобу он не стал рассматривать. Клевать себя лишний раз тоже не следует разрешать.
Да, это хорошее место в письме. Шешелова оно порадовало. Губернатору надоели пустые ябеды. Пусть бы и исправнику написал это. Тот поскромнее стал бы. И подсел к благочинному, невесело усмехнулся:
– По вашему научению.
– А у вас свой порох есть? Сколько? – спросил Герасимов.
– Зарядов на восемь, пушечный. Как горох, крупный. Да что проку в нем? Пушек все одно нет.
– Да... я про стрельбы учебные.
– Я понял, – кивнул ему Шешелов. – Но пороху нет для этого.
Герасимов больше не спрашивал ничего. И благочинный молчал. Поставил локти на стол, чего с ним ранее не случалось, подпер ладонями щеки, смотрел невидяще перед собой. Они, наверное, позабыли, сколько молчание длилось. Да и что сказать можно? Исчерпан разговор. Увиделось только: лица его друзей другими были, когда он сюда пришел. Теперь смех исчез, черты проступили на лицах резче. И будто со стороны увидел себя и их: старые они тут все. И беспомощные совсем.
Благочинный отнял от лица руки, вставая, тихо заговорил:
— Духом-то мы того, поослабли.
– И правда, как на поминках. – Шешелов не знал, как утешить своих друзей. И его усмешка горькою показалась.
– Идемте, Иван Алексеич. Поутру служба, – голос благочинного крепнуть стал. – Тут не помощь дали нам, а от отечества оттолкнули. Захотели лишить тем самым радости нас, рода. Губернатор-то, яко змий отечеством обернулся. Но не он наш род. И не он отечество. Идемте. Утро мудренее вечера.
«Верно, – думал Шешелов, надевая шинель, – хоть как обернись губернатор – не он отечество, Русь. Родство мы сами. И испытание на нас пало. Могло на кого-то другого, из русского рода. И он нес бы крест. И нам надо нести. А утро и вправду – мудренее вечера».
72
В блошнице по ночам тихо, даже на уши давит. Если под полом мыши завозятся, внезапный их писк, как крик, пугает. И когда дом оседает от старости, тоже в темноте жутко – потрескивает ли в стенах, или, словно кто-то крадется ощупью, половица вдруг заскрипит тягуче, даже мурашки по спине выступят.
Дядя Максим говорил днем:
– Нет, Андрейка, это не дом виноват. Души замученных без покаянья приходят в подызбицу. О кончине своей безвременной, о земной жизни плачут. Ты не бойся их. Они зла никому не делают.
А Андрей первые ночи от страха не мог уснуть. Все казалось: вправду голоса бродят стонами в половицах, маются на крюках подвешенные, плачут в стенах.