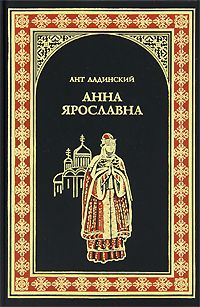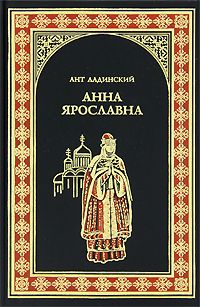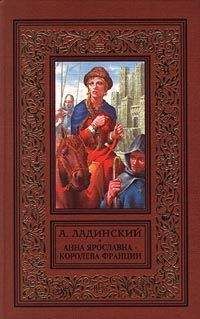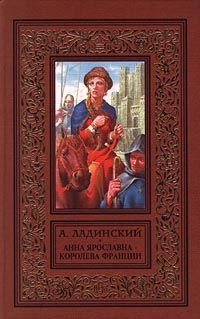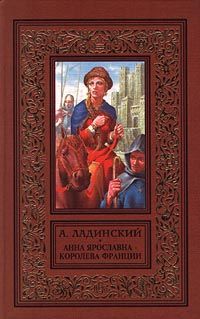Жан-Поль Рихтер - Зибенкэз
— До сих пор я повсюду шатался и хромал со своими силуэтными ножницами, а ныне отдыхаю в Вадуце у одного ученого библиофильствующего графа, который, право, заслуживал бы, чтобы я его любил в десять раз больше; но тебя одного уже более чем достаточно для моего сердца; вообще же я нахожу, что люди, и зеленый сыр земли, в который они впиваются зубами, с каждым днем становятся все более гнилыми и тухлыми. Не могу не сказать тебе: «Чорт бы побрал славу!» — в скором времени я исчезну и буду бегать среди толпы и еженедельно выплывать под новым именем, чтобы меня знали все, кроме дураков. — О, в моей жизни однажды было несколько таких лет, когда мне хотелось быть чем-то значительным — быть великим писателем или хоть девятым курфюрстом, — быть увенчанным лаврами или хоть епископской митрой, — быть изредка проректором или часто деканом. Тогда я с наслаждением вытерпел бы мучительнейшую каменную болезнь с соответствующим ей числом камней в мочевом пузыре, если бы мог воздвигнуть из этих камней алтарь или храм своей славы, еще более высокий, чем пирамида, которую Рюйш сложил в кунсткамере из сорока двух камней одной честной женщины.[120] Зибенкэз, я привязал бы себе колючую философскую бороду из ос, как Вильдау из пчел, чтобы только приобрести этим известность. «Я допускаю, — говорил я тогда, — что не каждый смертный удостоивается и не каждый может требовать, чтобы его хотел прикончить, как св. Ромуальда (о чем повествуете его жизнеописании Бембо), какой-либо город, дабы лишь зацапать его священное тело в качестве реликвии; но, как мне кажется, любой смертный может, не совершая нескромности, пожелать, чтобы из меховой опушки его сюртука (как это случилось с Вольтером в Париже) или хоть с его собственной макушки было выдернуто на память несколько волосков людьми, умеющими ценить его, — я разумею преимущественно критиков».
Именно таков был мой тогдашний образ мыслей; однако ныне я мыслю разумнее. Слава не заслуживает славы. Однажды в промозглый вечер, сидя под открытым небом на межевом камне, я поглядел на себя и сказал: «Что из тебя, в сущности, может выйти? Открыты ли тебе пути к тому, чтобы подобно покойному Корнелиусу Агриппе,[121] сделаться военным секретарем императора Максимилиана и историографом Карла V? Можешь ли ты возвыситься до ранга синдика и адвоката города Меца, лейб-медика герцогини Анжуйской и профессора теологии в Павии? Полагаешь ли ты, что кардинал Лотарингский пойдет в восприемники к твоему сыну так же охотно, как он это сделал для сына Агриппы? И разве не будет смехотворно, если ты вздумаешь разглашать и хвастаться, будто один итальянский маркграф, английский король, канцлер Меркуриус Гатинариа и Маргарита (австрийская принцесса) все сразу пытались в один и тот же год привлечь тебя к себе на службу; разве не будет это смехотворным враньем, не говоря уже о затруднительности всей затеи, поскольку все эти люди уже много лет тому назад рассыпались в манну св. Николая и снотворный порошок смерти, прежде чем ты вспыхнул в качестве горючего и гремучего порошка жизни? Скажи, пожалуйста, в каком известном произведении Пауль Иовиус называет тебя „Portentosum ingenium“, или какой другой автор приравнивает тебя к „clarissima sui saeculi lumina“. И разве не указали бы мимоходом Шрёк и Шмидт в своих „Историях реформации“, если бы это было истиной, что ты пользовался чрезвычайным доверием четырех кардиналов и пяти епископов и Эразма, Меланхтона и Капеллануса?
Но если бы даже предположить, что я действительно возлежал бы под той же великой сенью и тенью лавровых венцов, что и Агриппа, то нас обоих лишь постигла бы одинаковая участь: мы преспокойно гнили бы во мраке под этими кустами, и в течение целых столетий ни одна душа не стала бы пробираться сквозь эту чащу, чтобы взглянуть на нас обоих.
Еще меньше я выиграл бы, если бы вздумал поступить разумнее и устроить так, чтобы мне воздали хвалу во „Всеобщей немецкой библиотеке“; ибо со своей лавровой ветвью на шляпе я целые годы стоял бы там внутри, в этом холодном карманном Пантеоне, в моей нише, среди величайших ученых, восседающих или возлежащих вокруг меня на своих парадных одрах; да, повторяю, годами одиноко стояли бы все мы, увенчанные, в нашем храме славы, прежде чем хоть один человек распахнул бы церковные врата, чтобы поглядеть на нас, или вошел бы внутрь, чтобы преклонить колени, — и наша триумфальная колесница лишь превращалась бы время от времени в тачку, на которой этот многолюдный храм, с его изобилием славы, отвозят на аукцион.
И все же я, пожалуй, пренебрег бы этим и обессмертил бы себя, если бы мог хоть в самой малой мере надеяться, что, сделавшись бессмертным, я стану известен не только простым смертным. Но как тут воодушевиться, когда я вижу, что именно для самых знаменитых людей, лицо которых с каждым годом все больше зарастает в гробу лаврами, как у других мертвецов — розмарином, я остаюсь неведомой Центральной Африкой: в особенности для таких, как Хам, Сим, Иафет, — Авессалом и его отец, — оба Катона, — оба Антонина, — Навуходоносор, — семьдесят толковников и их жены, — семь греческих мудрецов, — я даже просто чудаки, как Таубманн и Эйленшпигель? — Если Генрих IV и четыре евангелиста, и Бэйль, хотя вообще он близко знаком со всеми учеными, и прекрасная Нинон, хотя она с ними знакома еще ближе, и многострадальный Иов, или, по крайней мере, его сочинитель, совершенно не знают, что на свете когда-либо был Лейбгебер; если для всех предшествовавших поколений, то есть шести тысячелетий, изобиловавших великим народом, я есмь и пребуду математической точкой, непроглядным мраком, жалким je ne isais quoi, то я не представляю себе, чем хочет и может мне это возместить в течение ближайших шести тысячелетий потомство, которое, быть может, немногого стоит.
Кроме того, ведь я не могу в точности знать, какие великолепные небесные воинства и архангелы имеются на других планетах и планетках Млечного Пути, этих четок из миров, нанизанных на нить, — какие серафимы, в сравнении с которыми я вовсе ничего не значу, во всяком случае, не больше, чем овца. Конечно, на земле мы, души, значительно продвигаемся вперед и вверх, — душа устрицы уже возвышается до лягушечьей души, — та восходит в треску, — дух трески возносится в гуся, — затем в овцу, — затем в осла, — и даже в обезьяну — и, наконец (думать о чем-либо высшем уже не приходится), в бушготтентота. Но столь длинной перипатетической градацией человек может чваниться лишь до тех пор, пока он не примет в соображение следующее: среди животных одного класса, в котором, совершенно так же, как у нас, должны иметься гении, хорошие светлые умы и сущие простофили, мы в состоянии распознать лишь последних, а самое большее — крайности. Ни один класс животных не находится так близко от нашей зрительной оболочки, чтобы тонкие меццо-тинто и переходы его достоинств не сливались между собою. — То же самое произойдет и с нами, если на небесах сидит и смотрит на всех нас какой-нибудь дух; вследствие своей отдаленности он затратит много труда (тщетного) на то, чтобы распознать действительную разницу между Кантом и его зеркальцами для бритья, то есть кантианцами, или между Гете и его подражателями, и означенный дух будет плохо отличать, или даже совсем не сможет отличать, университетских ученых от педантов и дома посвященных от домов умалишенных. — Ибо перед тем, кто стоит на высших ступенях, совершенно сливаются низшие.
Но мыслителя все это разочаровывает и обескураживает; и будь я проклят, Зибенкэз, если при таком положении вещей я хоть когда-нибудь засяду за работу и отменно прославлюсь, или стану трудиться и сооружу или сломаю остроумнейшую научную систему, или напишу что-нибудь более длинное, чем письмо».
Твой, а не мой
Я
Л.P. S. «Я бы желал, чтобы после этой жизни бог предоставил мне вторую, дабы в ином мире я мог заняться реальными вещами; ибо здешний мир, поистине, слишком пуст и бледен: это жалкая нюрнбергская безделушка — лишь опадающая пена жизни, — скачок через обруч вечности, — дряблое содомское яблоко, полное праха, которое я никак не могу выбросить из пасти, сколько бы я ни брызгал слюной. О!»
* * *Тем читателям, для которых эта шутка недостаточно серьезна, я где-нибудь докажу, что она даже слишком серьезна, и что только стесненная грудь способна так смеяться, что только слишком лихорадочный взор, перед которым фейерверки жизни пролетают подобно искоркам, предшествующим «темной воде», способен видеть и рисовать такие бредовые образы.
Фирмиан понял все, в особенности теперь… Но я должен вновь упомянуть об одиннадцатом февруарии, чтобы наполовину отнять у читателя ту симпатическую радость, которую он испытывал при виде радости вновь объединившегося трилистника. Потрясающая просьба Ленетты, чтобы супруг простил ее, была плодом, который, словно на гряде, удобренной дубильною корою, был взращен Цигеновским пророчеством, сотрясающим землю; Ленетта думала, что предстоит кончина мира и ее собственная, и перед близкой смертью, уже помахивавшей своим тигровым хвостом, она, как подобало христианке, протянула мужу руку в знак примирения. Конечно, перед его бесплотной, прекрасной душой ее душа проливала слезы любви — и восхищения. Но она и сама, может быть, принимала свои порывы радости за порывы любви, свое влечение — за верность, и надежда, что вечером она снова будет ласкать советника пылкими взорами, бессознательно выразилась у нее в более пылкой любви к мужу. Весьма важно, чтобы ни один человек не был здесь обойден одним из моих лучших поучений, которое гласит, что, имея дело хотя бы с наилучшей женщиной в целом мире, всегда следует различать, чего она в данную минуту желает и кого она желает; и последним далеко не всегда является тот, кто различает это. В женских сердцах происходит такая беготня всех чувств, такое пускание разноцветных мыльных пузырей, в которых отражаются все, а тем более близкие, предметы, что когда растроганная тобою женщина проливает слезу из левого глаза, она способна размышлять дальше и окроплять правым твоего предшественника или преемника, — что половину нежности, вызванной соперником, наследует, в качестве выморочного имущества, повелитель и супруг, — и что вообще женщина, даже при самой искренней верности, плачет не столько о том, что она слышит, сколько о том, о чем она думает.