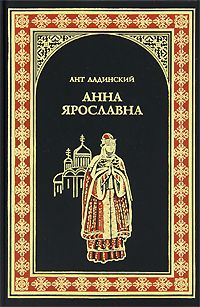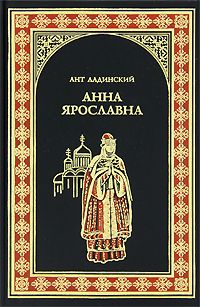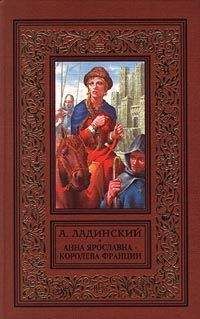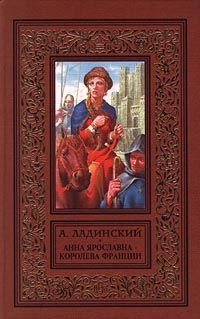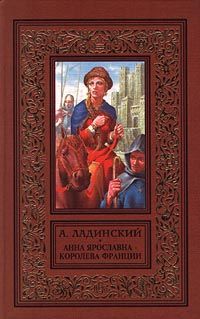Жан-Поль Рихтер - Зибенкэз
Позднее вечером наш Фирмиан в своем одиноком, уютном, но овеянном заботами кресле снова почувствовал, что не может ждать до завтра со всей своей любовью: самое заточение заставляло ее разгораться все сильнее, и, когда у него возникло прежнее опасение, что он может еще до равноденствия умереть от удара, он чрезвычайно испугался — не смерти, а мысли о том, как трудно будет Ленетте добыть денег на уплату сборов за испытание якоря,[119] это последнее испытание в человеческой жизни. Деньги, и притом в избытке, как раз были у него под рукою; он вскочил и еще ночью побежал к заведующему лотереей покойников; там он выполнил необходимые формальности, чтобы после его смерти жена унаследовала хоть пятьдесят гульденов, в качестве приданого, дабы как следует обложить землей, словно отводок, его бренную плоть. Мне неизвестно, сколько он заплатил; но я уже привык к подобным затруднениям, которых совершенно не знает романист, имеющий возможность выдумать любую сумму, но которые чрезвычайно отягчают и замедляют работу правдивого биографа, ибо единственным основанием, на котором он может утверждать что бы то ни было, являются архивные своды и документы.
Утром 11 февраля, то есть в субботу, Фирмиан вошел в комнату, мягко ступая и в мягком настроении, потому что каждая болезнь и исцеление, вследствие болей и потери крови, смягчает нас, и в особенности потому, что предстоял нежный день. Когда мы готовимся обрадовать кого-нибудь, мы его любим гораздо сильнее, чем будем любить часом позже, когда мы его уже обрадовали. — В это утро стояла такая ветреная погода, словно все бури устроили карусель и рыцарский турнир, или словно Эол выдувал воздух из духовых ружей; поэтому многие думали, что либо уже стряслось землетрясение, или же что из страха перед ним кое-кто повесился. — На лице Ленетты Фирмиан увидел два глаза, из которых уже в такую рань пролился на преддверие дня теплый кровавый дождь слез. Она ничуть не догадывалась об его любви и его намерениях и думала вовсе не о них, а вот о чем: «Ах! С тех пор как скончались мои родители, никто больше не интересуется днем моего рождения». Ему показалось, что у нее что-то есть на уме. Она несколько раз пытливо поглядела ему в глаза и, по-видимому, намеревалась что-то сказать; поэтому он решил помедлить с излиянием чувств, переполнявших его душу, и с разоблачением маленького двойного дара. Наконец Ленетта, медленно и краснея, подошла к нему, смущенно попыталась взять его руку в свои и с потупленными глазами, на которых еще не показалось ни одной целой слезинки, произнесла: «Помиримся сегодня. Если ты меня чем-нибудь огорчил, я тебя от всего сердца прощаю, а ты мне ответь тем же». Этот призыв поразил его теплое сердце, и сначала он смог лишь молча привлечь ее к своей стесненной груди и только после долгого безмолвия наконец сказал: «Только бы ты простила — ах, ведь я тебя люблю больше, чем ты меня!» И тогда вызванные бесчисленными воспоминаниями былых дней горячие слезы тихо заструились из переполненного глубокого сердца: ведь глубокие водные потоки текут медленнее. Она удивленно взглянула на него и сказала: «Итак, мы сегодня помирились — и сегодня день моего рождения, но очень грустный у меня день рождения». Лишь теперь исчезла его забывчивость в отношении подарка, который он хотел поднести, — он выбежал и принес его, а именно подушечку для иголок, ситец и сообщение, что вечером придет Штибель. Только теперь она заплакала — и спросила: «Ах, ты это устроил еще вчера? И помнил о моем рождении? — Благодарю тебя от всего сердца, особенно за — прелестную подушечку. Я не думала, что ты будешь помнить о такой мелочи, как мое рождение». — Его мужественно-прекрасная душа, в отличие от женской, не сдерживала своего увлечения и побудила его сказать ей обо всем, даже и о вступлении в число участников погребальной лотереи, которое он вчера учинил, чтобы она могла с возможно меньшими издержками отправить его в могилу. Ленетта была этим так же сильно и явно растрогана, как и он сам. «Нет, нет, — наконец сказала она, — господь сохранит тебя. — Но вот сегодняшний день — удалось бы нам только пережить его. Что же говорит господин советник о землетрясении?» — «Об этом не беспокойся, — он сказал, что его не будет», ответил Фирмиан.
Сердце его согрелось, и он неохотно выпустил ее из объятий. Пока он не ушел из дома (так как писать он был не в состоянии), он не отрываясь глядел на ее сияющее лицо, на котором рассеялись все тучи. Он применил против самого себя старый прием, — который я у него перенял, — а именно, чтобы как следует подобреть к доброму человеку и все ему простить, он ему долго глядел в лицо. Ибо в человеческом лице, если оно — старое, мы, то есть он и я, видим резонансную и счетную доску тяжелых скорбей, оставивших на нем столь резкие следы, а если оно юное, то нам оно представляется цветущей клумбой на склоне вулкана, которую разрушат первые же его сотрясения. — Ах, на каждом лице изображается или прошлое или будущее, и они нас приводят если не в удрученное, то в смягченное настроение.
Фирмиан охотно целый день, — и в особенности прежде чем придет вечер, — удерживал бы у сердца свою вновь обретенную Ленетту, а в глазах — свои радостные слезы; но она принимала свою возню за отдых, а слезные железы, вместе с сердцем, за источники праздности и нужды. Впрочем, она даже не решалась спросить об источнике, откуда текли золотоносные воды, столь плавно баюкавшие ее сегодня на своих волнах. Но муж охотно открыл ей тайну продажи часов. — Сегодня брак был тем, чем бывает предбрачное состояние, а именно тамбурином, у которого вместо струн две мембраны удваивают благозвучие. Весь день был словно отрезком ясного лунного диска, не затуманенного облачным венцом, или иного мира, куда из нашего переселяются даже обитатели луны. Благодаря своей утренней теплоте Ленетта уподобилась так называемому фиалковому мху, который, если только согреть его трением, благоухает, словно целая миниатюрная клумба.
Вечером наконец явился советник, смущенный и трепещущий, хотя и выглядевший немного надменно; когда же он хотел поздравить Ленетту, то ему помешали это сделать слезы, которые не только стояли у него на глазах, но и подступали к горлу. Его замешательство скрыло чужое. Наконец, непрозрачный туман между ними рассеялся, и они смогли друг друга видеть. Тогда настало веселье: Фирмиан заставлял себя быть радостным, а у тех двух радость сама собою расцветала в душе.
Над тремя примиренными, утешенными сердцами тяжкие грозовые тучи уже не нависали так низко, как прежде, — зловещая комета будущего, удаляясь утеряла свой меч и, уже просветлев и побелев, улетала в лазурь, мимо более ярких созвездий. — К тому же вечером прибыло от Лейбгебера краткое письмо, отрадные строки которого украсят вечер нашего любимца и следующую главу.
Итак, в мозгах тройственного союза — как и сейчас в мозгу читателя — недолговечные трепетные цветы воображения превратились в растущие, живые цветы радости, подобно тому как больной в бреду принимает колышущиеся цветы на пологе кровати за одушевленные фигуры. Поистине, эта зимняя ночь, словно летняя, еле успела погаснуть и охладеть на горизонте; и, расставаясь около полуночи, они сказали: «Да, мы все превосходно провели время».
Глава одиннадцатая
Послание Лейбгебера о славе. — «Вечерний листок» Фирмиана.
В предшествующей главе, исключительно из любви к читателю, я ввел его в заблуждение; однако приходится еще оставить его в этом заблуждении, пока он не прочтет нижеследующее письмецо Лейбгебера:
Вадуц, 2 Февраля 1786.
Мой Фирмиан Станислаус!
В мае я буду в Байрейте; и ты тоже должен туда отправиться. Сейчас у меня нет для тебя более никаких важных письменных сообщений; но достаточно важно уже то, что я тебе приказываю прибыть в первый день веселого мая в Байрейт, ибо, клянусь богом, я замышляю для тебя нечто чрезвычайно сумасбродное и значительное и неслыханное. Моя радость и твое счастье зависят от твоего путешествия; я открыл бы тебе тайну уже в этом письме, если бы из моих рук оно сразу же попало прямо тебе в руки. — Приезжай! — Ведь ты мог бы путешествовать вместе с неким кушнаппельцем Розой, который собирается ехать в Байрейт за своей невестой. Но если бы этот кушнаппелец, боже упаси, оказался тем самым Мейерном, о котором ты мне писал, и если бы эта золотая рыбка приплыла сюда, чтобы не столько согревать, сколько замораживать свою прекрасную невесту глупыми объятиями своих тощих рук, как в Испании подобными им настоящими змеями обертывают бутылки с целью их охлаждения, — то по прибытии моем в Байрейт я ей внушу о нем наилучшее мнение и буду утверждать, что он в десять тысяч раз лучше, чем ересиарх Беллармин, совершивший в течение своей жизни гораздо больше нарушений брачного обета, а именно две тысячи двести тридцать шесть. Ты знаешь, что этот поборник католичества состоял в непозволительной связи с 1624 женщинами; в качестве кардинала он хотел одновременно доказать возможность католического безбрачия духовенства и возможность обоснования папской энциклики «о блуднице», которая, согласно комментариям, регламентировала армию из 23 000 человек. — Я искренно желаю увидеть тайного фон Блэза; я бы ему, если бы он находился поближе ко мне, время от времени, — ибо у него всегда застревает в глотке нечто такое, что ему трудно проглотить, будь это даже наследство или чужое достояние, — я бы ему наносил (как это делают, чтобы помочь подавившимся) сильные удары по тощей спине и ждал бы, что выйдет, а именно — что выйдет проглоченный кусок.