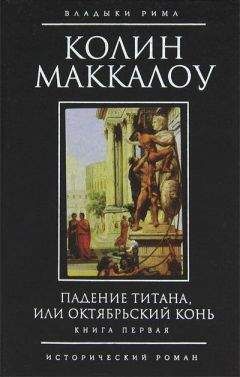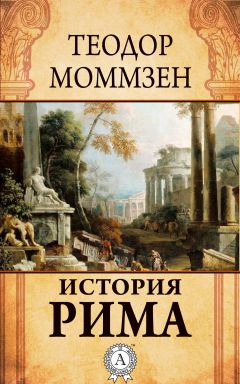Михайло Старицкий - Буря
Молча ехал Богдан на своем Белаше, покачиваясь слегка на высоком козачьем седле, уставившись глазами в луку, ушедши глубоко в себя думами. Конь, не чувствуя ни шпор, ни удил, шел, нагнувши голову, и захватывал вытянутыми губами сочную, душистую траву; простывшая люлька висела уже без огня в зубах гетмана, но он ничего этого не замечал, припоминая и взвешивая малейшие обстоятельства из пребывания своего в Крыму{86}.
«Нет, это невозможно, — думалось ему, — подозрения мои дики и оскорбительны… С неподдельною радостью и с искренним братским радушием встретил меня в Перекопе своем Тугай–бей; и отец, и сын принимали нас с Тимком как найдорожайших гостей и не скупились на пиры и подарки. Тугай–бей со слезами на глазах делился со мной и своими радостями, и своим горем и снова клялся в вечной дружбе… Да и как бы сталось иначе? Ведь я смолоду еще, когда был заложником в Крыму, подружился с ним на всю жизнь по–юнацки, ведь мы обменялись даже своею кровью, ведь я два раза спас Тугай–бея от смерти!»
— Да, если уже такой друг изменить сможет, — вырвалось у Богдана вслух, — то нет на земле ничего святого!
Богдан долго сидел в Бахчисарае и дожидался аудиенции у Ислам—Гирея; придворные мурзы брали бакшиш и только водили да угощали его, но и тут помог Тугай–бей: через месяц наконец допустили посла перед светлые очи султана{87}.
И встают, воскресают в воображении Богдана картины недавнего прошлого.
Диковинный, пышный дворец; царит в нем восточная роскошь; раззолоченные, расписные арабесками залы, освещенные разноцветными окнами, блистают сказочным великолепием; царедворцы, скрестив на груди руки и склонив головы, стоят безмолвными группами; под пышным балдахином, на атласных, золотом расшитых подушках восседает падишах{88}, перед ним курятся ливанские ароматы, в устах у него дымится кальян[73].
И помнится Хмельницкому, что какая–то непослушная дрожь пробежала по его телу; но он, осилив волнение, после обычных раболепных приветствий, обратился по–турецки к султану:
— До сих пор мы, соседи и братья по удали, были врагами; но к вражде принуждал нас наш утеснитель, запрягший в панское ярмо вольный русский народ. Знай же, светлейший султан, что козаки воевали с подвластным тебе народом по принуждению, поневоле, а в душе они питали всегда приязнь к верным сынам твоим, к храбрым и доблестным витязям. Теперь же час нашего ига пробил; ярмо до костей стерло наши шеи, и мы решились или умереть, или добиться свободы и зажить в мире с нашими славными соседями. Вот и послала меня к тебе, солнце востока, вся наша земля ударить челом властелину и просить у него ласки да помощи: мы предлагаем дружбу и вечный союз, клянемся сражаться за мусульманские интересы. Взгляни своим орлиным оком на эту бумагу: то наказ короля вооружиться нам всем поголовно и ударить на татар и турок. Но мы открываем твоему блистательному сиянию коварные замыслы наших деспотов и предаем свою судьбу в твои мощные руки. Враги наши — поляки — и ваши враги: они презирают силу твою, светозарный владыка, отказываются платить тебе должную дань и еще побуждают нас, подневольных, поднимать руку на своих природных друзей… Так открой же к нашему предложению высокий свой слух и склони благороднейшее сердце к нашей просьбе!
Ислам—Гирей слушал его, Богдана, с благосклонным вниманием и, видимо, тронут был его речью; он милостиво отпустил посла, пообещав сделать все, что не повредит интересам его страны, и даже протянул ему руку; но Тугай–бей передал Богдану, что султан хотя и рад был в душе исполнить просьбу козаков, хотя предложение Богдана и сулило ему многие выгоды, но он не доверял ему и боялся подвоха. Тогда Богдан предложил через Тугай–бея оставить в заложники своего сына; султан согласился на этот залог и призвал посла торжественно поклясться перед диваном[74].
Памятен ему этот день, влажный и теплый, с жемчужною цепью несущихся по синему небу облаков. Богдан стоял перед султаном среди многочисленного общества мурз и начальников крымских. На лице падишаха и на всех царедворцах лежал отпечаток особенного настроения.
— Хмельницкий, — произнес наконец торжественно султан, — если твое намерение искренно, если слова твои не лукавы, то поклянись перед всеми нами на моей сабле.
Подали драгоценную саблю, и Богдан, поцеловав клинок, произнес твердым, недрогнувшим голосом.
— Боже, всей видимой и невидимой твари создатель! Перед тобой наши души открыты, тебе ведомы помышления наши! Клянусь, что все, что прошу от ханской милости, прошу от щырого сердца, что все, чем обязуюсь ему, исполню без коварства и без измены — иначе покарай меня, боже, гневом твоим и допусти, чтобы это священное лезвие отделило от моего тела преступную голову.
— Мы тебе верим теперь! — протянул Хмельницкому руку султан, а затем и все мурзы стали приветствовать его как союзника и друга.
Но хитрый султан не захотел объявить сразу Польше войну, не двинул своих сил на защиту козаков; он дозволил только своему вассалу Тугай–бею, славному наезднику и грозе всех соседей, пойти к Богдану на помощь. «Очевидно, он надвое думал, — улыбнулся горько Богдан, — удастся дело — тогда он двинет и свои полчища, а не удастся — тогда он свалит вину на своеволие вассала… Не думает ли такой же думы и приятель мой Тугай–бей? О, то было б возмутительным, неслыханным вероломством!» Вместе ведь, после их байрама{89}, отпивши из одного кубка кумыса, выехали они из Перекопа с табором бея, Богдан только свернул с дороги и поспешил в Сечь.
И как обрадовались ему и кошевой, и куренные, и Товарищи–братья! С распростертыми объятиями встретили его, с криком восторга передавали друг другу привезенные им вести… А потом гукнули из гармат, ударили в стоявшие на плацу казаны и собралась рада, да такая, что не вместила ее обширная площадь, майдан, а пришлось перейти всем за сечевые окопы, на широкий луг.
Ох, какая это была минута, когда вся десятитысячная толпа, снявши шапки, поклонилась Богдану и восторженно завопила:
— Слава и честь Богдану! Веди нас, будь нам головою! Мы без тебя — как стада без чабана! Мы все, сколько нас есть, пойдем за тобою на панов и ксендзов и постоим за родной край до последнего дыхания!
Посыпались тогда к ногам его шапки, загудели колокола с запорожской звонницы, загрохотали залпы мушкетов и отгукнулись сечевые гарматы.
А потом торжественный молебен, освящение знамен и выступление из Сечи… Эти дни сверкнули для него, для Богдана, ослепительным блеском и наполнили его грудь приливом таких восторженных чувств, которых не выдерживает иногда и закаленное, железное сердце…
— Какие это тянутся сизою лентой луга? — спросил у хорунжего Дженджелея Богун, пристально вглядываясь в мглистую даль, — не Ингул ли?
— Нет, — взглянул по указанному направлению Дженджелей, — Ингул левее, а это, верно… да, так и есть, — это Тясмин{90}.
— Тясмин? — вскрикнул Богдан и встрепенулся весь, словно разбуженный страшным окриком. — Тясмин? Уже, значит, близко родные края, родные люди, дорогие лица… но близко уже и враги… Быть может, тут за несколько миль поджидают нас с отборным многочисленным войском, а союзника моего нет! Измена или какое–нибудь несчастье?.. Ох, господи, — поднял он глаза к небу, — пощади их, неповинных!
В это время послышался приближающийся топот бешено несшихся к нему всадников, очевидно, из авангарда. У Богдана застыло сердце в груди.
— Ясновельможный гетмане! — осадил перед ним запорожец коня. — От заката солнца наступает на нас какая–то рать… Распознать кто — еще нельзя, а видно по мареву и слышно по гуку в земле, что конница.
— Конница от заката? — переспросил Богдан. — Не обошли ли поляки? А может быть… Нет, Тугай–бей шел бы от полудня с тыла, — несомненно, что это враги! — и, подавив в себе смущенье и тревогу, крикнул громким и бодрым голосом: — Стой! Стройся, шикуйся в табор!
Команду гетмана подхватили полковники, от них приняли сотники и передали куренным атаманам, а последние уже своим батавам, и понесся гетманский приказ от лавы до лавы перекатным, замирающим эхом. Передние ряды стали, к ним начали примыкать подходившие, и растянувшийся хвостом змей вдруг стал сжиматься и толстеть с шеи, расширяясь до полного изменения первоначальной формы. Конница распахнулась на две половины и дала место пехоте, а сама вытянулась справа и слева двумя широкими крыльями; в центре выстроились густыми лавами пешие полки, за ними подходивший обоз начал устанавливать возы в грозный четвероугольник с двумя орудиями по углам, который при надобности мог вместить в себя все полки и составить неприступное прикрытие, особенно если время еще позволяло окопаться рвами.
Богдан, поручая старшине отаборить поскорее полки, сам между тем поскакал к ближайшей могиле и стал с вершины ее обозревать окрестность. В глазах у него не было уже и тени, тревоги, напротив того, они горели отвагой и огнем: теперь осматривал поле не подозрительный, сомневающийся в самом себе ставленник, а опытный полководец–герой, привыкший к победам и славе. У ног гетмана колоссальным кругом расстилалась степь, что гладь зеленого моря; из этой глади то сям, то там, словно островки, возвышались курганы, а вдали, на краю горизонта, убегающею лентой синели луга. Везде было пустынно, безлюдно; нигде не обнаруживалось движение масс, только на вершинах холмов чернели одинокие всадники да двигались иногда такие же продолговатые черные точки по далеким окраинам, описывая широкие дуги. Вдруг две, три точки приблизились к дальнему кургану; в то же мгновение сорвался с него всадник и понесся стрелою к другому; не успел он доскакать, как с этого кургана полетел вскачь вартовой до следующего возвышения и т. д. Наконец через десяток минут примчался к подножию холма, где стоял гетман, вестовой запорожец и гаркнул, махая шапкой: