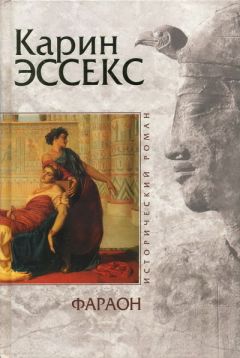Карин Эссекс - Фараон
Было двадцать четвертое декабря, ночь праздника, ночь, когда праздновали встречу Дитяти-Солнца, чье рождение знаменовало прибывающие дни и долгожданное возвращение к свету. В канун этой великой ночи богиня даровала ей сон, сон о нем, в котором он снова был молод. Это было так прекрасно — вновь ощутить тепло его любви, что, когда она проснулась и увидела, что его рядом нет, она разрыдалась.
Она плакала почти весь день и лишь в конце этого празднества слез поняла, что удерживалась от слез слишком долгое время — пока длилось это тяжкое испытание. Слезы накапливались целый год, и вот теперь она наконец позволила им вытечь, всем, до последней капли.
Она оделась скромно, выбрав не величественное одеяние, в котором самой себе казалась маленькой и незначительной, а простое льняное платье. Волосы она оставила распущенными, лишь подобрала по бокам небольшими серебряными гребнями. Она еле-еле тронула губы и щеки красным, чтобы напомнить ему о том, какой была в молодости, прежде чем тревоги выпили ее румянец. Она снова сделалась худощавой, словно девушка, потому что ей не хотелось есть.
Взглянув в зеркало, она увидела себя такой, какой была много лет назад. Что же вновь вернуло ей облик юности? Поразмыслив над этим, она поняла: надежда.
Она отправилась к нему одна, не собираясь ничего говорить. Никаких речей, никаких взаимных упреков, никаких угроз, никаких подарков, никаких шлюх. И он тоже был один, и трезвый; он сидел и смотрел, как огромный красный шар солнца погружается в море. Она встала рядом с ним, положила голову ему на плечо и застыла в безмолвии, просто прислонившись к нему и притворяясь, будто последних шести месяцев не было. Притворяясь, будто они никогда не покидали Александрии, никогда не собирали армию и не отправлялись на войну, никогда не ставили честолюбивые замыслы превыше привязанности друг к другу. Ей хотелось, чтобы это мгновение никогда не заканчивалось, чтобы оно длилось вечно, и потому она ничего не говорила. Ей хотелось снова очутиться в том сне. На самом деле она надеялась, что уже умерла и вокруг — потусторонняя жизнь, в которой они могут вечно быть вместе, без войн, которые необходимо вести, без царств, которыми необходимо править.
Уже почти стемнело, когда он заговорил.
— Я бросил тебя в беде, — произнес он в фиолетовой дымке сгущающихся сумерек; его слова были обращены к морю. — Тебя и многих других. Я больше не стану так поступать.
Он повернулся и, не проронив больше ни звука, обнял ее и прижал к себе так крепко, что у нее перехватило дух. Она тихо ахнула, и он ослабил объятия, но ей не хотелось шевелиться. Неужто она спит? Она так долго пребывала в напряжении, не позволяя себе ни малейшей надежды, что даже не вполне осознавала происходящее: быть может, сегодняшний вечер — всего лишь часть ее грез? Скоро ей вновь предстоит проснуться и лить слезы печали. Нет, она этого не выдержит. Ее тело истерзало себя слезами и оставило ее опустошенной. Рыдания словно разъяли ее плоть и выпустили оттуда терзавшее ее мучительное беспокойство. И на месте тревоги водворился какой-то странный покой.
Он взял ее лицо в свои загрубевшие ладони и взглянул на нее. Словно призрак, он медленно возвращался из мертвых. Горе оставило отметины на его лице, но казалось, что гнев и унижение ушли и он разделяет с нею непонятное ощущение покоя. И они, не покидая места успокоения, занялись любовью. В этом не было ничего от неистовой страсти прошлого. Ими двигало не вожделение, не честолюбие и не вгоняющий в дрожь, захватывающий барабанный бой войны, а какое-то невыразимое блаженство. Без силы и борьбы, без самозабвенного погружения в наслаждение и без отчаянных стараний продлить удовольствие они просто сошлись, словно двое невинных существ, очарованных, постигающих таинство любви постепенно, шаг за шагом.
Она понятия не имела, как долго они держали друг друга в объятиях. Время остановилось. Стало очень темно, но никто не посмел войти к ним в комнату и зажечь лампы. Лунный свет лился в распахнутое окно, заливая их теплую кожу холодным белым сиянием. Она уцепилась за него в поисках тепла, положив ногу ему на живот, а он прижал ее к своей груди. Она перебирала волосы, растущие у него на груди, — так ребенок играл ее кудрями. Ей не хотелось прикрывать наготу. Ей так долго не хватало этой картины: они, возлежащие вместе!
Должно быть, это происходило около полуночи, потому что вскорости они услышали пение, доносящееся с улиц. Молящиеся покинули храмы и вышли на улицы с возгласами: «Дева родила! Свет приходит!» Их голоса звенели радостью и весельем; при их звуках она встряхнулась, и ей захотелось стать частью народного праздника.
— Пойдем со мной на улицу, — сказала она. — Это будет не очень долго.
Она надела свое скромное платье, а он — простой греческий хитон, и они набросили плащи. Празднество рождения Солнца — довольно сложная церемония, и им не хотелось нарушать ее, являясь туда официально в качестве царственных особ.
Два стражника с факелами последовали за ними. Свет плясал у них под ногами, и они пытались наступать на желтоватые пятна, когда те двигались вперед, и смеялись, словно дети. Они присоединились к процессии Ребенка-Солнца, младенца, представляющего дитя великой богини Астарты, почитаемой в землях Востока. У малыша, выбранного в этом году, было сморщенное личико. Он не плакал, как это обычно бывало, а сидел, благосклонно взирая на все вокруг широко распахнутыми глазами, пока его несли по улицам в крохотных носилках, словно маленького царя, озаренного светом факелов, высоко поднятых в руках его почитателей.
Она подумала: «Как прекрасен мой город ночью! Как белеют его колонны, и стены, и дома на фоне полуночного неба!» На миг ей показалось, будто она поймала взгляд малыша, и он напомнил ей первый взгляд любого из ее детей; ей вспомнилось, как она мечтала об их будущем и о том вкладе, который они внесут в будущее своего народа.
Со всех сторон ее окружали радостные лица. То ли их с мужем воскресение в столь великий день — дар богов, то ли это их возрожденная любовь оказалась настолько велика, что заразила своею радостью всех вокруг. Она думала, что подобные события происходят в соответствии с таинственной волей богов и, если верить астрологам, в соответствии с расположением звезд. Она не знала, что случится завтра, но сегодня их желания пребывали в гармонии с небесами, и казалось, что этого достаточно.
Процессия завершила свой путь у храма Сераписа, бога востока и запада, созданного ее предком, Птолемеем Сотером, Птолемеем Спасителем. Серапис был даром Птолемея своему народу. Первый из династии Птолемеев обнаружил, что сходное божество почитают и на Делосе, и в Египте, он увидел, что Серапис любим обоими народами, и по достоинству оценил, какие возможности для объединения это представляет. Люди тоже это поняли; они сделали Сераписа супругом Владычицы Исиды, богини-матери, богини исцеления и творения, воительницы, владычицы сострадания. Этот союз оказался счастливым. Птолемей Сотер объединил людей благодаря тому, что понимал природу божественного. Став царем Египта, этот преемник Александра не разрушил ни одного храма и никого не преследовал за религиозные убеждения.
Единство. Мечта Александра, мечта Птолемея Сотера, мечта Клеопатры и Цезаря, Клеопатры и Антония. Почитание всех богов мира и единство всех людей, их почитающих. Эта заветная мечта дошла к ней, передаваясь из поколения в поколение, и, несмотря на все перенесенные ею страдания, она поняла: мечта о единстве все-таки жива.
Она вспомнила о своей беседе с философами, которые учили, что все боги — и даже странный свирепый бог, которому поклоняются семитские племена, — суть одно Божество, и ей подумалось: может, эту концепцию придумали ее предки? Ее отец, хоть и был ревностным приверженцем Диониса, тяготел к подобной теологии. Ей вспомнилось, как отец взял ее, девятилетнюю девочку, в храм Сераписа и как жрецы продемонстрировали ей науку, скрывающуюся за внешними чудесами храма. Ей продемонстрировали, как магниты и проволочки ведут бога в объятия богини, какие сифоны используются, чтобы изобразить превращение воды в вино, и как огненные машины создают ослепительную вспышку на алтаре. Все эти представления описал в своих книгах Полибий, потрясенный тем, как жрецы используют магию, дабы внушать простым людям страх перед богами. Но Клеопатра полагала, что это не способ вызывания страха, а путь к умиротворению, возможность на чувственном уровне подтвердить, что вся магия богов, о которой люди знают и которую ощущают сердцем, — истинна.
«Неужели у богов недостаточно сил, чтобы творить чудеса самостоятельно?» — помнится, спросила тогда она у отца, насупленная и возмущенная. Авлет же ответил: «Люди называют это чудом; ученые называют это изобретением. Но изобретение и есть чудо, разве не так? Никогда не отнимай у людей веру в могущество богов и никогда не разуверяйся в нем сама».