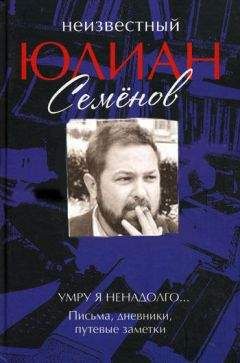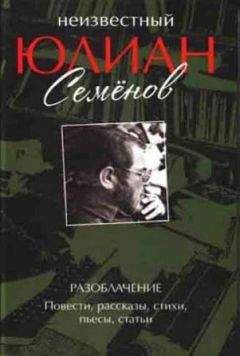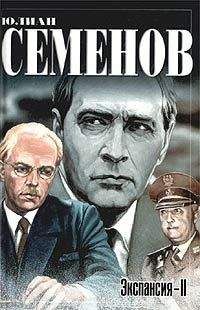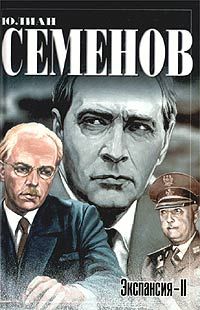Юрий Рудницкий - Сумерки
— Пошлите завтра за священником! Кто кормит ребёнка?
— Жена коланника Максима Вьюна.
— Выделите ему надел без дани и полюдья! А теперь ступайте. Я должен помолиться.
Долго вымаливал Кердеевич грехи своей Офки: долго и горячо, потому что молился впервые с тех пор, как подписал договор с Зарембой.
Долго Грицько Кознар приводил в чувство молодого боярина. А к вечеру открылась горячка, всю ночь он метался, бредил, кричал, плакал, смеялся, казалось, ему грозит тяжкий недуг. Утром, по совету Грицька, Андрийко окатил себя холодной водой, после чего проспал целый день. Вторая ночь прошла спокойней, третья — совсем спокойно, видимо, здоровый молодой организм благополучно преодолел потрясение. Далеко не так было с душой, её раны лечит только время, и то не всегда. Общительный и живой, он умолк совсем. Сейчас от молодого боярина добиться слова не могли ни Грицько, ни Коструба, ни священник. Безразлично слушал он всё, что говорили, понимал каждое слово, но не проявлял никакого интереса, словно лишился какой бы то ни было воли. Часами бездумно глядел он куда-то в пространство, ничего не видя и не слыша. Пахари выезжали в поле и возвращались домой, женщины копали свёклу, рубили капусту, обирали в садах плоды, обвязывали соломой ульи; жизнь деревни кипела, но на его лице не расцвела ни одна улыбка и ни одного слова не сорвалось из его крепко сжатых уст.
На зимнего Миколу приехали наконец, в Юршевку гости — Михайло Юрша и молодой Горностай.
Грицько рассказал воеводе всё, что знал, и; тут только старый Юрша понял, почему его племянник так внезапно всё бросил.
— Это душа в нём зачерствела от горя и сомнений, — сказал Юрша, — но он молодой, всё пройдёт! — и всячески старался расшевелить племянника, рассказывая ему о войне шляхты с орденом, и Свидригайла с Кейстутовичем, о зверствах Сигизмунда в Литве и о покушениях на его жизнь. Наконец показал похвальную грамоту великого князя за расправу над бунтовщиками князьями Глинскими и наказ стоять на страже южных границ Киевского княжества, воеводой которого он назначался. Андрийко всё спокойно выслушал, но не ответил ни слова. Воевода возмутился, хватил кулаком по столу и заорал:
— Отвечай, парень, дяде! Я ведь не стене говорю!
Андрийко встрепенулся, словно пробудился от сна.
— Простите, дядя, — сказал он, — но всё это суета! На неё и отвечать не стоит.
— Суета? Что ещё за суета? Это жизнь, а ты живой, чёрт возьми! — возмутился воевода. — Неделю сижу в Юршевке, а ты хоть бы слово вымолвил.
Лицо Андрийки помертвело.
— Суета, — прошептал он, — суета. Не живой я человек, да и не жил никогда, нет! То, что вы называете жизнью, заблуждение, ложь, суета!
Воеводе надоело разговаривать с полоумным, и он принялся за хозяйство: судил, рядил, глядел за очерёдностью ратной службы, выслеживал татар либо уезжал в Киев. И тогда в усадьбе с Андрием оставался Горностай.
Безразличие товарища огорчало Горностая ещё больше, чем воеводу, который хоть и любил племянника, как собственного сына, но не был ему близким другом, а подлинный друг скорей найдёт дорогу к сердцу друга, чем отец к сердцу сына. Наблюдая, как воевода всячески старается не напоминать Андрию о прошлом, Горностай заметил, что его друг приходит в себя тогда, когда речь заходит об Офке. И вот однажды, сидя с ним наедине у очага, Горностай заговорил об осаде Луцка, о рыцарских игрищах, о князе Олександре и Офке. Лицо молодого Юрши оживилось, он начал дополнять воспоминания, и сам не заметил, как разговорился; глаза загорелись былым огнём, бледное лицо покрылось румянцем, и он даже выпил чарку мёда. В следующий вечер, когда люди ушли на покой, сам заговорил о Незвище.
— Наша любовь, — утверждал он, — была последним звеном, соединявшим меня с жизнью. И хотя так блестяще мной начатый путь оборвался, а великое, святое дело восстановления державы Святого Владимира превратилось в обычную крамолу, всё-таки Офка указала мне ещё одну цель в жизни: счастье! Боже! Как рачительно берегла она его, как старательно отдаляла от меня всё, что могло помешать нашей радости! Чувствовала, видимо, что этот цветок, как и прочие, скоро завянет…
В глазах Андрия заблестели слёзы.
— Не говори так, Андрийко, — замечал Горностай, — конечно, Офка была тем звеном, но так уж у неё на роду написано… И, может, оно и лучше, что так получилось!
— Как? — с угрозой в голосе прохрипел Андрийко.
— Да ведь она родила ребёночка, и тем самым искупила свои грехи, всю мерзость, что на ней лежала. А грехов хватало! Не могла она остаться в памяти людей чистой и светлой как ангел… Все смотрели бы на неё, как на гулящую девку, и даже я, твой друг, видел бы в ней вторую Грету. А ребёночек? Его прокляли бы на Руси, показывали бы пальцами на байстрюка, потому что ни один поп не повенчал бы тебя с женой живого Кердеевича. Разве что приютили бы вас троих, как перевертней в Польше, да и то после смерти старосты, с которым нельзя не считаться. Только о мёртвых не говорят худого!
Андрийко встал с лежанки и принялся медленно прохаживаться по светлице. Потом остановился у очага.
— Ты прав, Данилко! — сказал он, впервые называя Горностая по имени. — Я ещё никогда так не смотрел на своё загубленное будущее.
— То будущее, что умерло, было осуждено на гибель в самом зародыше. Сам говоришь, как берегла его покойница. Она была умной, рассудительной женщиной и предвидела то, о чём ты и не помышлял!
— Да, но вижу теперь, и тем глубже вонзается в сердце шип… Молодому человеку необходима какая-то цель. Без неё жить невозможно. А для чего жить, если всё распалось в руках? Разве что уйду в монастырь отмаливать Офкины грехи…
— Не подливай воды в Днепр, Андрий! Сам знаешь и веришь, что она святая. Ведь ты ей молишься, чтобы она просила бога дать тебе счастье!
Вторично поглядел Андрийко на друга с удивлением.
— Да! — продолжал тот. — Поставь высоко-высоко в душе слёзный памятник Офке, рядом с памятником отца. Пусть будут они твоими заступниками, а ты живой человек и живи по-человечески. Сам говоришь, что покойница целью жизни ставила счастье. Ищи же его, это счастье! Что его не было в Незвище, доказала тебе смерть. на земле не одни лишь увядшие цветы! Каждой весной из-под снега вырастают свежие…
Эта беседа переломила болезнь молодого человека. С того времени Андрийко словно переменился. Поначалу просто бродил по лесу, потом брал уже с собою лук и целыми днями охотился. Горностай нередко составлял ему компанию и каждый раз наталкивал его на новые мысли и придумывал новые развлечения.
Однако самую интересную забаву придумал Коструба, раздобыв у какого-то мужика ручного годовалого медведя. Необычайно сообразительный зверь жил в вечной войне с дворовыми собаками, от которых оборонялся дубиной. И вот однажды, когда любимица Андрия, Белка, ощенилась, медвежонок, улучив момент, схватил щенят вместе с охапкой сена, на котором они спали, и положил их среди голых прутьев на вербу, которая росла у частокола, а сам уселся рядом, следя за тем, чтобы они не упали. Собаки просто захлёбывались от лая, а Белка жалобно выла, садилась на задние лапы и «служила». Все усилия собак согнать медведя с вербы были тщетны, наконец они разбежались, и под деревом осталась лишь Белка. Она тихо скулила, словно молила у медведя прощения и обещала вечный мир. Спустя какое-то время Мишка, что-то ворча себе под нос, схватил щенков и положил их на прежнее место. С того времени война между ним и собаками прекратилась. Глядя на эту сцену, Андрийко впервые засмеялся.
Прибыв в начале весны из долгого путешествия с вестями о победе Свидригайла и его союзников, воевода очень обрадовался, увидев, что племянник стал живым и энергичным.
— Добро! — сказал он. — Наконец протрезвился; теперь всё пойдёт по-иному.
И в самом деле. В мае 1433 года все трое поехали за добром покойного боярина Василя Юрши в Руду.
— Не гоже мне, Андрийко, с тобою наедине разговаривать, не гоже и гулять в саду! — говорила Мартуся, серьёзно покачивая головой, увенчанной чёрными, как вороново крыло, волосами. — Не гоже и говорить «ты», потому что ты рыцарь с поясом и шпорами, а я уже девушка-боярышня.
— Это тебе, наверно, няня наговорила, — догадался Андрийко и засмеялся.
Маруся спокойно подтвердила его догадку, однако оба продолжали путь. Майское солнце заливало потоками света и тепла цветущий сад; пьянящие запахи неслись отовсюду; на ветвях заливались-щебетали птицы. Тянуло свежестью. Оба они шли по той же дорожке, как и тогда, весной 1430 года. Но теперь Юрше каждый дал бы лет двадцать пять, двадцать шесть, Мартуся же расцвела, стала красавицей и невольно привлекала взоры.
— Ты помнишь, Мартуся, — начал немного погодя Андрийко, — как ты мне, как раз на этом месте, рассказывала сказку про Змия Горыныча.