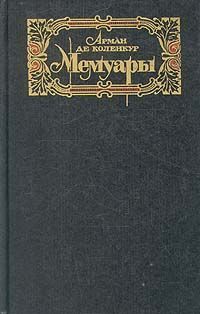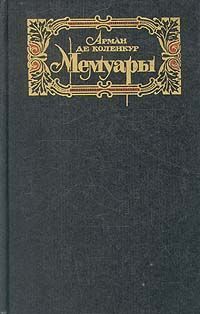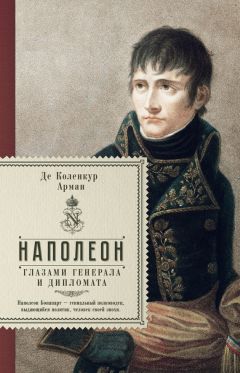Михаил Ишков - Марк Аврелий. Золотые сумерки
— Смогем, отец родной, — выкрикнули из строя. — Нам бы только до живодера добраться.
— Рад слышать.
* * *
На следующий день в Сирмий явился Пятый Флавиев легион, за ним прибыли Четырнадцатый Марсов Непобедимый, Десятый Сокрушительный и, наконец, притопали Жаворонки, за свою более чем столетнюю историю отличившиеся в Галлии и войнах на востоке.
Легионеры отдыхали день, затем снова отправлялись в поход.
Ждали последние два — Двадцать первый Стремительный и Пятнадцатый Изначальный. Император потребовал от легатов, трибунов и первых центурионов, собранных на совет, довести длину дневного перехода до тридцати — тридцати пяти тысяч шагов в день.* (сноска: 30–35 км в день. Обычный дневной переход составлял 20 км и продолжался семь часов. Отмечены случаи когда войско проходило около 50 км в день.)
Чем быстрее мы явимся в Сирию, тем меньше нам придется пролить крови, заявил он. Необходимо свалиться Авидию, как ливень на голову. После усмирения мятежа император обещал щедрое вознаграждение всем, кто принял участие в походе. За ужином Марк обсудил сложившееся положение с Пертинаксом, Севером и легатами. Все пришли к выводу что положение складывается в их пользу, только нельзя терять время.
Уже после ужина Феодоту шепнули, что некий человек, задержанный возле императорской резиденции, требует, чтобы его срочно допустили к императору. Спальник передал известие укладывающемуся в постель господину.
— Я сам его не видел, — объяснил Феодот, — но стража заявила, что это какой‑то бродяга, весь в отрепье, однако твердит, что имеет сказать что‑то важное о мятеже.
— Ох — хо — хо, — вздохнул Марк, — труды мои тяжкие. Ладно, зови. Предупреди Вирдумариуса, пусть хорошенько обыщет его и не оставляет без надзора.
Феодот с укором глянул на господина.
Император поднялся, прошел в свой кабинет. Там и сидел, пока в дверях не показались телохранитель, придерживающий посетителя за плечо. Ростом неизвестный был подстать Вирдумариусу, действительно наряжен бедно, на плаще прорехи, лицо прикрывал капюшон. Обнаружив перед собой Марка незнакомец тут же повалился на пол, распростерся на полу, зарыдал, принялся биться лбом о пол. Вирдумариус, возвышавшийся над ним, не спускал с него глаз. Наконец незнакомец поднял голову, откинул капюшон.
Император не удержался, подался вперед.
— Витразин! Как ты осмелился?..
Сообразив по голосу государя, что дело нечисто, германец тут же, ухватившись за хламиду, одним рывком поднял его, заломил руку. Лицо вольноотпущенника исказилось от боли.
— Пусти!.. — сквозь зубы выговорил Витразин.
Император махнул телохранителю, тот ослабил хватку. Витразин вновь мешком сполз на пол, но теперь голову поднял и торжествующе выкрикнул.
— Повинен, величайший!
— Надо же! В чем же ты повинен? — спросил Марк.
— Просмотрел, не доглядел, вовремя не сообщил. Но, милосердный, дай мне возможность заслужить прощение. Я много знаю. У злодея хватало сообщников в Риме, в самых высоких кругах. Я всех назову. Припомни нашу последнюю встречу, блистательный. Я же упрашивал тебя — нет у тебя вернее слуги, но ты, господин, не поверил. А я не доглядел.
— Зачем посадил Сегестия в тюрьму?
— В какую тюрьму? Кто сказал — в тюрьму? Кто посмел оклеветать меня?! Я спас его от Корнициана, легата пропретора. Самый опасный в окружении Авидия человек. Корнициан почему‑то решил, что Сегестий — соглядатай, и приказал подвергнуть его пыткам. Я спас его, он мой старый товарищ. Мы вместе… ладно, об этом вспоминать не будем.
— Поднимись, — предложил Марк, — и расскажи, какова твоя роль в подготовке заговора. Если будешь честен, избежишь пыток.
— Пусть поразит меня Юпитер! Пусть покарают Юнона и Минерва!.. Поверь, господин, я купился на удочку сирийца. Он использовал меня в темную. Когда я приехал в Антиохию, где у меня собственность, он попросил меня передать письма в Рим. Я передал, потом он припугнул меня — заявил, мы с ним в одной лодке. Поверишь ли, господин, я сробел, потом решил проследить за ними за всеми. Когда сумею выявить всех злоумышленников, когда они решат перейти к делу, доложить императору. Но не успел.
— Бебий Лонг излагает другую версию твоего участия в мятеже.
— Что может знать какой‑то Бебий Лонг! Он всего несколько дней провел в Антиохии. Признаюсь, несокрушимый, парень удивил меня. Он повел себя мужественно. Тебе, великий, следует щедро наградить его.
— Он здесь, Витразин, и свидетельствует против тебя.
Витразин неожиданно поднялся, отряхнул хламиду, повел себя заметно раскованней. Чуть отставил ногу в сторону. Услышав о Бебии, позволил себе небрежно махнуть рукой — ах, этот Лонг.
— Его слово против моего, государь, — заявил вольноотпущенник.
— Но его рассказ подтверждает Клавдия.
— Они супруги, величайший, и могли сговориться.
— У меня еще есть свидетели.
— У меня тоже, господин.
Решившись повиниться перед Марком, Витразин смертельно страшился первого мгновения, когда император, раздраженный каким‑нибудь случайным неудобством, даст волю гневу и велит немедленно казнить его. Одна надежда была на философию, которая предписывала не давать волю страстям, вести себя невозмутимо, не спешить с решением, а Марк, по мнению Витразина, был хорошим философом. По крайней мере, в своих записках, которые в отрывках ходили по Риму, император утверждал приоритет милосердия и великодушия над всеми другими качествами, которыми должен был обладать правитель.
Витразин изо всех сил гнал свою бирему, губил гребцов, и чем ближе подплывал к далматинскому берегу, тем уверенней чувствовал себя. Первый прилив страха, от которого он едва не лишился разума, прошел. Морской ветерок за эти полторы недели отлично обдул голову, выветрил глупости, подсказал, как следует вести себя.
Нельзя отсиживаться, прятаться — в этом случае наказания не избежать.
Необходимо покаяться первым.
Первого философ простит, обязан простить, тем более, если у того на руках есть кое‑что такое, от чего кое‑кто не сможет отвертеться. Итак, покаяться первым и обязательно перед Марком. Никаких Ауфидиев, Агаклитов, Платоников! Никаких прошений, слезных писем! Только лично, в его присутствии. Задача трудная, но для тех, у кого много золота, в Риме нет закрытых дверей. Следует прямо явиться в ставку и выложить все, он знает, а знал он немало.
Есть у него и главный козырь. Принцепс будет вынужден поинтересоваться у одной из самых важных в государстве особы, правда ли, что Витразин действовал с ее согласия и по ее указаниям? У этой персоны не будет выхода, ей придется подтвердить его невиновность. Только бы пережить первый миг.
— Кто же? — спросил император.
— Их много, и некоторые из самых могущественных. Они подтвердят, что я пытался проникнуть в замыслы заговорщиков.
— Кого ты имеешь в виду?
— Я не могу вымолвить…
— А ты напрягись.
— Да не за себя я боюсь.
— За кого же?
— За тебя, господин.
Наступила тишина. Марк долго рассматривал огромного, выжившего на арене, сколотившего состояние, добравшегося до самых верхов римского общества и все равно неуемного громилу. Исправим ли он? Намек Витразина сразил его в самое сердце, пробудил тщательно скрываемую тревогу. Прочь предчувствия! В такой момент следует действовать разумно, исходя из государственных соображений. Обиды оставим на потом, когда сумеем остыть, перебороть, описать их.
— Ты хочешь сказать?..
— Да, господин. По ее повелению…
Вновь молчание.
Марк позвонил в колокольчик. Появились два преторианца.
— Уведите, — приказал Марк. — Посадить под замок.
Месяц, до самых июньских календ Витразина держали взаперти. Кормили хорошо, пыткам не подвергали. Наконец на четвертый день до июньских нон его окликнули. Отперли дверь камеры, проводили в баню, где позволили обмыться. Сердце у Витразина упало — не перед ли казнью такие милости? Однако стражи вели себя доброжелательно, намекали на трудную жизнь, нехватку средств, дороговизну товаров. Витразин посоветовал им обратиться к его прокуратору, которого он привез с собой из Антиохии. Это необычайной доброты человек, заявил Витразин, он поможет, чем сможет.
Затем его вновь вернули в узилище, расположенное во дворе претория, занимавшего большой квартал у императорского дворца. Провели наверх. Здесь у дверей стражи передали вольноотпущенника уже знакомому преторианцу. Тот взял Витразина за плечо и провел в кабинет императора.
Тот стоял у стола, на котором под покрывалом возвышалось что‑то округлое, напоминающее большой арбуз.
— Подойди, Витразин, — пригласил его император. — Полюбуйся.
Витразин приблизился — ступал робко, мелкими шажками. Император резко сдернул покрывало, и на Витразина глянула отрубленная голова Авидия. Отрезана чисто, крови натекло немного, видно, отделили голову после смерти, — в этом он разбирался. Глаза были открыты, смотрели стеклянисто, губы скривились в ухмылке.