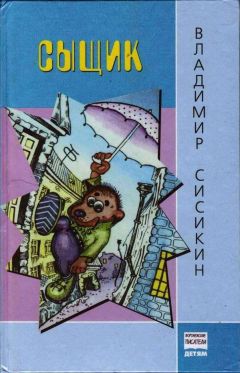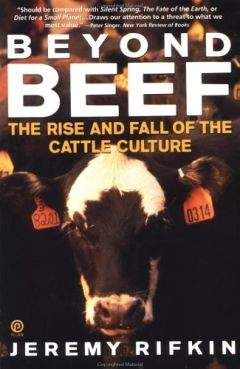Кемаль Тахир - Глубокое ущелье
— Ну и дела!..
— Да, дела, друг мой! И еще нашел он золотых идолов, усыпанных драгоценными камнями. И кадила из черного дерева — дороже золота. И лики пророка Иисуса и девы Марии...
— Погоди, погоди, знаю! Украдены из церкви Айя-София в Изнике. Как же собрал все это в своей пещере мерзавец Бенито?
— Или скупал их за бесценок, или у грабителей отобрал... Или же пещера его — притон разбойничий.
— Что сказал на это наш бей Осман?
— Выслушал, руки в бороду запустив. Задумался... «Никто пусть сейчас не проговорится,— сказал.— Придет время, знаю, что делать будем...»
— Коли так сказал, конец Черному монаху! Не уйдет от Осман-бея.— Каплан Чавуш рассмеялся. Потом опять стал серьезным.— А глупый Керим? Поймал, значит, его Черный монах?
Дели Балта рассказал, как было дело.
— Дивлюсь я на твоего зятя. Откуда бесстрашие у него такое? Знаешь, Каплан, что значит осмелиться войти в пещеру монаха?
— Неужто думаешь, я монету в карман кладу, не попробовав её на зуб? На то он и мой ученик,— с гордостью сказал Каплан Чавуш.— Разве, глупая твоя голова, согласился бы я отдать за него свою дочь? — Он задумался, затем пренебрежительно улыбнулся.— Где тебе понять? Недаром сказано: «Сабля ножен не режет». Кто не боится монашеских пещер, святых гробниц, безлюдных кладбищ? Тот, кто в медресе учился! И не каждый мулла, а истинно храбрый.
Прибежала Ширин с огромной чашей айрана. Оружничий схватил чашу, как бедуин, проведший несколько дней в пустыне без капли воды. Осушил, не переводя дыхания. Поохал, покряхтел. Вытер кулаком усы. Спросил:
— Скажи-ка, дитя мое Ширин, где Аслыхан?
— Не знаю.
— Найди ее поскорей! Пусть бежит домой, поставит котел на огонь. Доверху водой нальет. Не пройдет усталость, пока в горячей воде не искупаюсь. Скажи, велел, мол, передать, чтобы расстаралась как следует, не то получит по затылку!
Когда Ширин спускалась по лестнице, Дели Балта расхохотался:
— Могу оплеуху в долг дать! Чтоб ты передать не забыла.
— Верно, они ведь бестолковые, Балта. Вроде тебя!
— Ишь, собака! Напился холодного айрана, а теперь кусается.— Конюший, о чем-то вспомнил, встрепенулся.— Да что же это? Уехали вы вдвоем, а приехал ты один! Где наш славный Кедигёз? Ранен? С коня упал, береги господь?
— Не беспокойся! Оставил я его в Сейитгази. Жив-здоров, спит. Бросил серебряную монету караван-сарайщику. Не буди, говорю, пока он сам не проснется. Как встанет, пусть меня догоняет. Не найдет хорошего коня — вряд ли он раньше завтрашнего вечера в Сёгюте объявится...
— Ай-ай-ай! Опозорил ты лучшего гонца! Бросил товарища в дороге! Золотое имя Сёгюта в медь обратил! Чтоб тебе на месте провалиться, бесстыжий Каплан! — Конюший долго и сокрушенно хлопал себя по коленям. Потом склонился к Каплану Чавушу, спросил: — Помилуй, чавуш чавушей, лев львов, брат мой джигит, ведь не оставил бы ты Кедигёза спящим в дороге, если б не важная весть? Скажи, какие вести из Коньи? Получил ты фирман на войну от султана нашего Месуда? Будет набег, а, Каплан? Натешимся мы отныне налетами?
Каплан Чавуш, заговорившись с Дели Балта, чуть было не забыл о цели своей поездки. Вскинулся встревоженно.
— Ой, Балта! Ты прав, не время разговоры разговаривать. Дело-то неотложное. Беги-ка поскорее, сообщи о моем приезде. Да что же это за вечерняя молитва? И в рамазан такую длинную не читают!
Дели Балта очень хотелось выудить новости, но он не посмел нарушить обычая, расспрашивать бейского гонца и убежал.
Каплан Чавуш устал в дороге, однако не так, как это показывал Дели Балта. Просто ему хотелось немного позабавиться над конюшим. Поглядев в приоткрытую дверь дивана, улыбнулся в усы. Поддался, поправил чалму, провел по лицу ладонью. Волосы и борода спутались на ветру. Облизнул запекшиеся губы, поправил саблю, подтянул палаш.
Шейх Эдебали и Осман-бей были удивлены появлением Каплана Чавуша, ибо рассчитывали, что он приедет не раньше как через четыре дня.
Эдебали долго глядел на гонца. Наконец произнес:
— Добро пожаловать, Чавуш! С доброй ли вестью?
Каплан Чавуш, поцеловав руки шейху и бею, поклонился. Отступил на три шага.
— С доброй, мой шейх! Вашей, милостью...
— Устал ты, проходи, садись... Слово гонца — не быстрое, садись.— Он подождал, пока Каплан сядет.— Осман-бей никак не полагал, что ты так быстро вернешься.
— Мы в Конье не задерживались, мой шейх, в тот же вечер в обратный путь пустились. Два перехода за день делали.
— Неужто султан разрешил напасть на Караджахисар? Воины и осадные орудия в дороге?
— Нет, мой шейх.
Эдебали недоуменно посмотрел на зятя. Осман-бей тоже не мог понять, почему Каплан Чавуш, даже не переночевав в столице, пустился в обратный путь.
— Может, мой брат, шейх Коньи, бумагу послал? Давай сюда...
— Нет! И воинов нет... и бумаги нет...
— Так чего ж ты назад понесся? Надо было подождать, Каплан! Не возвращаться без бумаги от брата моего, шейха Коньи.
— Не вернулись бы без бумаги, мой шейх, да только...
— Ну что? Не тяни!
— За восемь дней до Коньи добрались. Кинулись во дворец... Плохи дела в Конье, мой шейх. На рынке, того и гляди, грабеж начнется.
— Оставь в покое рынок. Во дворце были?
— Были. Но дворец на дворец не похож... Оттуда к вашему брату шейху явились. Открыл письмо, прочел, спросил, что во дворце. Подумал немного. Видно, не знает, как решить. Говорит: «Отдохни несколько дней. Надо мне повидать кое-кого. Жду я важных вестей. После них и ответ напишу». Только он сказал, ввели человека. Ни живой ни мертвый. Язык не поворачивается слово сказать. Оказалось, гонец шейха вернулся из Тавриза. Коня загнал... Проговорил только: «Ильхан Аргун, сын Абака, приказал долго жить!» И свалился на месте.
— Что приказал Аргун-ильхан, помилуй, Чавуш?
— Неужто умер?
— Правда, помер, Осман-бей. Как услышал господин наш шейх, даже подскочил. «Эй,— кричит,— закройте ворота! Никого не впускайте, не выпускайте! Такого-то, и такого-то, и такого-то скорее ко мне». Увидал меня, говорит: «Не время ждать, Чавуш, не до отдыха теперь... Спустись в конюшню, выбери лучшего коня, гони в Сёгют. Каждый миг дорог! Успел весть передать раньше всех — хорошо. А узнали о ней прежде тебя — все труды твои напрасны. Пока гяур ничего не знает, спит спокойно, постарайтесь Караджахисар захватить». Я ему говорю, что без осадных орудий, без воинов невозможно. Как закричит на меня: «Ты еще здесь, болван! А ну, проваливай!» Бросился я вон. Остановил он меня. «Постой,— говорит,— куда бежишь, не дослушав?!» Потряс меня, что грушу. «В Тавризе сядет Кейхату. Но шейх Эдебали пПусть другое знает. Брат Кейхату, Байджу, давно готовится захватить ильханский престол. Казан, сын Аргуна, тоже на престол зарится. Об этом брату Эдебали лучше нас известно. Не скоро кончится между ними усобица. Пока спор идет, брат мой шейх свободен. Пусть делает что знает, а в остальном на меня положится». С этими словами и отпустил меня... Вскочил я на коня и — быстрее назад.— Каплан Чавуш шумно выдохнул.
Шейх Эдебали перестал перебирать четки. Осман-бей задумчиво глядел на развешанное по стенам оружие. В диване стояла тишина — прыгни блоха, было бы слышно.
Первым собрался с мыслями шейх Эдебали. Улыбнулся. Подняв руку, остановил хотевшего было заговорить Осмаи-бея.
— А теперь расскажи-ка, Каплан Чавуш, что сказали тебе в султанском дворце?
— По правде говоря, мой шейх, плохи дела в Конье! Сомневаюсь, найдется ли во всем дворце человек, чтоб мог бумагу прочесть. Пропала Конья! Я уж говорил: как приехал, сразу бросился во дворец. У ворот какие-то пьяницы, не понимают, что значит гонец из удела. И это называется дворцовая охрана, чтоб их всех вздернули! «Ишь, разбежались,— говорят,— ничего, подождете!» Я им говорю: «Не до шуток, дело срочное!» Смеются: «В спешке и черт попутать может. Ступай подобру-поздорову, глупый туркмен!» Думали от меня отделаться. Пока мы препирались, подошел безусый парень, хотел бумагу забрать... Нельзя, говорю, дело важное, из рук в руки передать велено. Только султану или главному визирю сказать можно... С трудом я во дворец попал. Провел меня безусый парень в султанский диван, схватил бумагу и скрылся. Ну, думаю, прочтут, соберутся, посоветуются. Долго, думаю, придется ждать ответа. Поискал, куда бы сесть, и не нашел: в диване султана Месуда не то что миндера, попоны драной, что под собаку стелют, и той нету. Не успел я решить, что мне делать,— гляжу, безусый парень обратно идет. Султан, мол, повелел сказать...— Каплан Чавуш уставился в потолок, заморгал, пытаясь вспомнить султанский наказ слово в слово.— «Пусть больше не пишут нам таких бумаг из уделов! Не время сейчас осаждать византийские крепости, тревожить спящую змею. Неужто не знают, что император византийский Андроник готов отдать сестру свою за ильхана Аргуна? Как только поправится ильхан, встанет с постели, с сорокатысячным войском прибудет за нею в Изник. Пусть туркмен на глаза не лезет, под ногами не путается, если не хочет погубить себя. Время опасное. Слухи есть: ильхан вознамерился страну императору пожаловать. Мы, прочитав сию бумагу, нам присланную, ее сжигаем. В Конье что монгольских, что императорских шпионов как песка в пустыне. И гонцу следует об этом подумать: если он кому проболтается про бумагу, которую мне передали, пусть на себя пеняет. И чтобы убирался отсюда немедленно. Иначе прикажу на кол посадить, шкуру содрать да соломой набить...» Сказал все это безусый парень и уходить собрался. Остановил я его, за подол кафтана схватил. Постой, говорю, сынок, что же это такое? Понимаю, что лучше бы не приезжать нам, но, раз уж приехали, нужен мудрый человек: из уст в уста слово передать велено! Нельзя, отвечает. Вырвался из рук моих, ускользнул, как мыло. Увидел я, шейх мой, что во дворце не осталось человека, слово понимающего. Да и дворец не дворец больше — не при вас будь сказано,— хуже цыганского шатра. О золоте и серебре я не говорю! Бронзовых подсвечников, медных мангалов и тех нет! Свечи горят в разбитых глиняных плошках, а светильники такие, что и бедные вдовы в руки не возьмут...