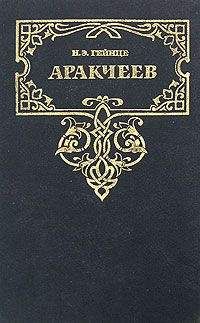Борис Алмазов - Атаман Ермак со товарищи
Может быть, первую ночь после осады спали относительно спокойно, хотя со всеми опасениями, не гася фитилей у затинных пищалей, но все же спали.
Отстоялись ведь. Перетерпели, пережили осаду. Отбились. Два следующих дня больше лежали на солнышке, вовсе голые грелись. Закипятили казаны со щелоком, из золы наведенном, рубахи да сподники кипятили — вошь выпаривали, вываривали.
Выносили из землянок и вовсе ослабелых да опухлых на солнышко. Отпаивали мясным отваром. Понатащили дикого луку да черемши — заставляли жевать. На третий день, как раз под воскресенье, вынесли из землянки икону. Отслужили, как умели, благодарственный молебен. Вроде как сразу легче на душе стало. Сутки еще отлеживались, а утром за топоры и, спотыкаясь, побрели ко стругам. Сначала робко, а потом все веселее заскрипело, застучало на берегу... Задымили костры, закипела смола, зачернели струги смолеными бортами. Оживали казаки.
Не сговариваясь, атаманы казаков не трогали, не понуждали: делай кто что хошь... Знали, что человек безделья долго не выдержит. А тут в живых-то остались только люди, на всякую работу гожие.
Иноземцы путаные, которых от Строгановых чуть не волоком забрали, еще в первый год на Абалаке почти все полегли — не умели они с татарами по-казачьи драться... Остальных быстро Господь прибрал — как видать, новая жизнь да земля эта незнаемая им не по душе пришлась. Бедовал с казаками только один рыжий немец, да схоронили его недавно — с голоду помер. Поминали его у стругов ежечасно чуть не со слезами — славный был человек! Жалели, что даже имени его не ведали — немец да немец! Жалели и других, до сего дня не доживших. Хотя атаман Ермак, поминая Старца покойного, вдруг сказал:
— В Писании сказано: «И настанут времена, когда живые будут завидовать мертвым...»
— Ты чо? — сказал Гаврила Ильин. — Ты чо, батька?
— Устал я чтой-то! — вздохнул, тряхнув сединою, Ермак. — Ну, да ладно. Там же сказано: «Никто же часа своего не знает!»
— Что ты завел! — одернули его казаки. — Помнишь, батюшка говорил: «Уныние — ворота всех болезней». Ты вон на стрельцов посмотри — страх.
Стрельцов вместе с головой стрелецким Киреевым было человек шесть: все без зубов, опухшие, обезножевшие, с проваленными глазами, в цинготных пятнах — живые мертвецы.
А казаки хоть и обеззубели маленько, и сгорбатились, а все же шевелились-двигались, не лежали колодами у землянок. Не так, как прежде, а по-стариковски, по-муравьиному отдирали, по трое-пятеро вместе, доски с бортов совсем пришедших в негодность стругов и волокли их к гожим. А починялыцики крепили борта обновленных корабликов.
Как и раньше, ладна и забориста была их работа, но если раньше весело перекликались они, припева-ли-посвистывали, то теперь больше покряхтывали-постанывали, а иной раз и срывались друг на друга с бранью. Но хоть и грызлись порой, а работа всех мирила. И опять хватались за труды. Иначе никак — там, где раньше один управлялся, — теперь трое не поспевали.
Ермак работал со всеми, знал: остановишься, станешь болячки считать да примечать, как тело разрушается, — тут и помер! От работы так ломило отвыкшие от топора ладони, что ложку не мог держать. Тряслись руки — плескал наваристую щербу на седую теперь уже бороду.
Еды стало вдосталь. Понаехали ясашные люди, по-наволокли меду, да мяса, да рыбы, да грибов. Приехали и молчаливые татары, сгрузили с воза несколько мешков с мукой.
Приметил Ермак, что сидят на возах и татарки с дитенками, а которые казаки тех дитенков на руках нянчат да целуют.
Ухмылялся атаман: «Наш корень!»
Но переменились казаки — не те теперь стали, что до похода, за Камнем. Старца не стало, а разговоры, что душе надобно спасаться, теперь велись постоянно. И говорили о сем больше, чем о бабах да об охоте. Мечтали годы в монастырях скончать, будто позабыли, что в монастырях бывает.
«Как мы тута!» — смеялись казаки. И Ермак радовался. Раз засмеялись, стало быть, на поправку дело пошло! Выпутаемся!
Почасту говорили о подкреплении из Москвы. Ждали его, как Царствия Небесного, но некоторые сомневались:
— Вона, приведут таких же убогих, как энти, что с Болховским-покойником пришли! Кабы нам такой подмоги не было, разве до нынешней туги да художества дожили бы? У нас припаса вдосталь было, а энти и нас объели, и сами померли!
— Ну, дак Глухов же, той, что Маметкула повез, перекажет небось, как оно тута на самом деле! Какая подмога надобна!
— Да дошел ли он, Глухов-то! Надобе еще кого послать.
Тут кстати выполз и Киреев, и как с ножом к горлу:
— Давай мне струг, буду в Москву с донесением, что померли все... И вам подмогу.
— А дойдешь? — сомневались казаки.
— На карачках доползу.
Всю работу бросили ради починки одного струга. За три дня сладили. Киреев как ожил, да и стрельцы его: козлом в струг вскочили — и ходу из Кашлыка! Поплыл известным Печорским ходом, куда река сама несет.
— Эдак ведь он полгода идти станет... — вздохнули казаки. — Когда ж подмога придет?!
— Да вы что! — смеялся Ермак. — Не поняли, что он отсюдова утекал!! И нечего его удерживать было. Толку-то от него, как с козла молока!
Даже и не озлились. Плюнули только вслед да опять за топоры взялись.
— Сколько стругов себе-то поновлять будем? — спросил Мещеряка Ермак, когда пять корабликов уже качались на волнах.
Собрали малый Круг, потолковали.
— Рубим семь стругов. В семь, что случись, все поместимся.
— В шесть поместимся! — вздохнул Ермак.
— Ну, а седьмой — в запас! Запас карман не трет!
— Не в том беда, что коровенка худа, — вздыхал Ермак. — А в том беда, что ей корму нет...
— Да что ты, батька, все вздыхаешь, все нудисся... Смотри — татарву ведь чудом разбили. Нас-то — горсть, а их тысячи с четыре было!
— Милай! Про то, что мы Божьим чудом живы, я давно ведаю! Так ведь на Бога надейся, а сам не плошай, а мы очень оплошиться можем!
— Через чего?
— И нас всего сто человек, с больными да ослабелыми — сто тридцать, и припасу огненного ты ведаешь сколь. Мы не то что теперь осады не стерпим, а и на хороший бой у нас ни свинцу, ни пороху!
— Думаешь, пойдут татары?
— А куда они денутся! Еще как пойдут! Ясашные люди говорят, по улусам и от Карачи муллы ездят, и от Сеид-хана, и от Кучума! Народ баламутят. А народ энтот такой: дашь раза — разбежится. Оплошаешь, выкажешь слабину — в горло вцепится, без милости! Только дай потачку!
— Да мы их не одним огненным боем побиваем, разве в рукопашной с казаком есть кого сравнить? Сам-пят, сам-семь побивают!
— Мясом задавят! — сказал Ермак. — Что на Човашевом мысу, что на Абалаке — огнем пробились.
— Да, от рукопашного боя урону-то больше!
— Урон урону — рознь! Здесь как шмякнет свинцом да грохнет: куды куски, куды обрезки! Это тебе не пикой колоть, так руки-ноги и летят... И такое не всякий стерпит! Страх гонит! Да и слава о нас идет, что мы огненного боя люди — потому непобедимы. А ну-ко его не станет? Враз скажут: да они — то, что и мы, и неча их опасаться!
— Это верно, — наконец согласился Мещеряк. — Ну а где пороху взять?
— То-то и оно, что негде. Стрельцы маленько подмогнули припасом да свинцом... Я еще о прошлом лете бухарца просил, чтобы он порох да свинец привез. Обещался. Нам чего: порох да свинец, да холста и сукна, а боле ничего и не надо! Ну, крупы да хлеба... И все. Нам ни каменьев, ни злата-серебра, ни шелков заморских не надобно! А ему от нас мягкую рухлядишку интересно получить! Вон у него как глаза горели. Он за каждый хвост лисий удавится. А у нас этого добра — до хрена! Немерено. И все тащат и тащат!
— Думаешь, придет бухарец?
— Желает сильно прийти, а придет аль нет — как скрозь татар прорвется! Они-то ведь нас со всех сторон, окромя полночи, обложили.
— Это так... — вздохнул атаман Мещеряк. — Остяки сказывают, чуть не поименно всех знают!
— И знают! Им остяки все и переказали! — засмеялся Ермак. — Они же как дети — врать не умеют, а ежели и соврут, так сразу видать! Нешто ты их сам не знашь?
Казаки потихоньку отъелись, повеселели. Стали по вечерам на варгане гудеть, да в гудки играть, да песни распевать. Поставили болвана, цепями увешанного, стали опять руки намахивать да от ударов цепями уворачиваться. Но не было в казаках прежней удали и веселья. Сумрачны были и казаки и атаманы. И окрестные людишки это замечали.
Они, как и прежде, шли в Кашлык, но мал и скуден был их поток. Не то, что в первые годы, когда казаки отдаривали каждое подношение. Нечем стало благодарить лесных людей — потому остались только люди верные, вроде Бояра, да Суклема, да Алачея, которые присягу выполняли свято, и ясак несли исправно, и союзничали. А чтобы дружество было крепче, когда были священники живы — крестились и уже носили под кухлянками да малицами медные казачьи нательные кресты. Хотя и ведали, что, попадись они к муллам да баскакам татарским, не миновать лютой смерти. Всадники Карачи и Ку-чума рыскали по всем стойбищам, убивали всех, кто платил ясак казакам. А казаки теперь заступиться за остяков не могли, не успевали — мало казаков осталось.