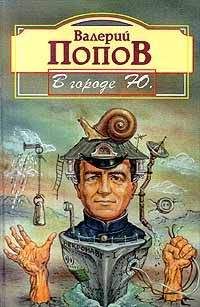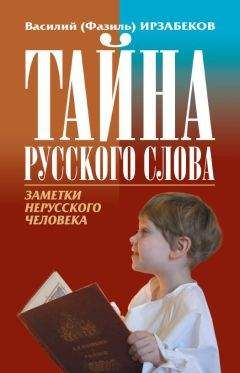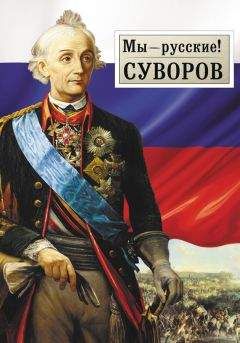Вячеслав Шишков - Странники
— Надежда Ивановна, мне не с кем посоветоваться… Будьте матерью, — трогательно, с волнующей дрожью в голосе начала Маруся Комарова.
Она уважала Надежду Ивановну, поэтому откровенно рассказала ей про свое сиротство, про свою прошлую жизнь, полную срама и постыдностей. За последние дни у нее была сильная потребность излить свою душу до конца, И вот сейчас, бичуя себя без всякого милосердия, она чувствовала, как все существо ее становится светлей и чище, как сердце освобождается от накопившихся вольных и невольных томящих ее зол. Рассказывая, она горько плакала, нервно вскрикивала, всплескивала в отчаянье руками, в конце же концов замолкла, блаженно успокоилась, как после горячей мыльной бани и освежающего душа.
Пожилая, видавшая виды Надежда Ивановна не препятствовала этой очистительной исповеди. Внимательно выслушав, она дала девушке тридцать капель валерьянки, обласкала ее. Глаза Маруси Комаровой сияли теперь полным умиротворением, как глаза человека, чудесно освободившегося от смертельной болезни.
— Так в чем же, родная Маруся, дело? Влюблена, что ли? — Надежда Ивановна сбросила очки и подслеповато уставилась в лицо девушке.
— Не влюблена… А, понимаете, думаю выйти замуж.
— За кого?
— Емельян Схимников. За него.
Надежда Ивановна дыхнула в очки и стала протирать их кончиком белой косынки. Ответом медлила.
— Он хотя прямо и не говорил мне — напротив, он говорил, что хочет жениться на какой-то деревенской, а я-то вижу, что он мной заинтересован.
— Не знаю. Мне кажется, он очень неустойчив. Он милый, — прямо скажу, редкий парень, но… Не знаю, не знаю.
Надежда Ивановна деловито принялась растирать в фарфоровой ступочке какое-то лекарство. Маруся робко сказала:
— Ну, что ж. Ежели несчастно женимся, можно разойтись.
Надежда Ивановна бросила фарфоровый пестик и в раздражении одернула косынку:
— Разойтись? А потом с другим сойтись? Ежели неудача — опять разойтись, да опять мужика завести нового? Так, что ли? Нет, миленькая. Об этом забудь и думать. Удивляюсь, как это у вас, у молодежи. Да, обидно. Я всю молодежь огулом не хочу хулить. Нет, нет. Было, да прошло. Теперь молодежь стала умней, сознательней и чище. Факт. Но все-таки разные типчики существуют и теперь. Какой-нибудь сопляк, еще у него усишек нет, а уж он переменил трех, четырех жен. Да ведь он, паршивец, к зрелым годам потеряет всякий вкус к жизни, ведь из него выйдет в конце концов последний развратник и пошляк! Ведь он, негодяй, себе спинную сухотку наживет, в двадцать пять лет лысым будет! Он утратит уважение к женщине как к человеку. Это буржуазные замашки, эксплуататорские, это — гнусное преступление против своей жизни, против жизни других, а следовательно, и против государства. Нет, миленькая моя, так пролетарию делать стыдно, стыдно!..
Надежда Ивановна, вся раскрасневшаяся, вновь с ожесточением принялась тереть лекарство, потряхивая полным телом. Марусю Комарову прошиб пот.
— Вот я сама. Мы с мужем партийные и живем вместе пятнадцать лет, да, думаю, так и умрем. А почему? У нас взаимное уважение, общие интересы, снисходительность друг к другу. Ну, словом, настоящая чистопробная любовь. Не любвишка, не паршивые амурчики, а любовь. Любовь в свете ходит, она создает кругом крепчайшую живительную атмосферу взаимной спайки. И в этой атмосфере нет места ни подлости, ни лицемерию. Она есть свет, но мы этого света, привыкнув к нему, не замечаем или слепнем в нем и зачастую коротким своим чувствишком принимаем его за тьму. Вот в чем трагедия. Но я не хочу забивать тебе голову так называемыми проблемами любви. Проблем много, а любовь одна. Впрочем, я когда-нибудь соберу вас, всех женщин, и поговорю на эту тему.
— Пожалуйста, Надежда Ивановна. У нас еще две девушки собираются замуж выходить. Одна за крестьянина из станицы.
— Ну, что ж. Отлично. А тебе вот что… Ты к Емельяну присмотрись, чем он дышит. И что у него в сердце; любовь или просто слюнявая страстишка.
— Нет, он против кобельковщинки. У него крепко.
— Как? Как? Кобельковщинки? Очень хорошее словцо, меткое. Этот ярлык сразу снизит человека до собаки. Да. Значит, решай не с маху. И ты ему скажи, чем дышишь. Что все, как на ладошке, в прятки играть нечего. Да вы, впрочем, сразу же почувствуете, создается ли вокруг вас свет, токи такие, вроде электрических, от сердца к сердцу. Впрочем, в кобельковщинке тоже бывают токи. Не смешай. Ты — пролетарка, вышла из народа, у тебя ум должен быть трезвый, честный. А будет запинка — опять ко мне. Не торопись.
* * *
Охотники вышли в поле рано. Юшка тащил на себе провизию. Он потешно болтал, перевирая русские слова;
— Зайца по-татарску называйса куян, ружье — мултык. Карашо — якши, кудой — яман. Жрать называйса ашать.
Погода была тихая, тусклая. Вдали, налево, рыжел кустарник, переходивший в лес. Охотники направились туда. Встретился по дороге Дизинтёр. Лошаденка везла из соснового бора четыре закомелистых лесины.
— Что, зайчишек? — поклонился он. — Ой, Амелька! Здорово, дружок!
— Кончаешь стройку-то?
— Кончаю. Пуп надорвал! С Катерининым папанькой неприятности у меня. Злобный, черт, стал — как барсук. Не хотится из кулачков-то вылезать…
Пошли дальше. Дизинтёр остановил лошадь, крикнул:
— Амелька! — и подбежал вразвалку к охотникам. Нагольный полушубок у него рваный, лапти трепаные. На крепком лице белая бородка и летний, прочно державшийся загар. — Вот что, ребята, упреждаю. И тебя, товарищ Краев. В народе болтают, шижгаль какая-то шляется по окрестным деревням. Я так мекаю — опять городское ворье шалит. Слух прошел: недавно мужика вон в том лесу пьяного убили… Поопаситесь, ребята. Как бы не тово. Дома караул держите покрепче. Ну, вот.
— А у тебя-то оружие есть? Из лесу едешь.
— У меня? А вот, — вскинул Дизинтёр оба кулака и во всю грудь засмеялся.
Пороша была безветренная, плотная, заячьи следы многочисленны и четки. Часа за три взяли двенадцать зайцев. Татарчонок торжествовал. Обедать расположились на опушке леса: отсюда до коммуны больше десяти верст. В ногах чувствовалась усталость, но взбодренная кислородом кровь освежала тело. Хмурый, бессолнечный день быстро угасал, дали постепенно заволакивались туманной хмарью, стал легковейный порошить снежок.
С разговорами пошагали, не торопясь, в обратный путь. Дорога лежала лесом.
Амелька задумался над предостерегающими словами Дизинтёра: «Поопаситесь, ребята: громилы городские шалят здесь», — в его сердце вновь появилась тень тоскливого замешательства и какое-то предчувствие беды. Шел и озирался, наготове держал ружье.
* * *
Снег падал щедро, крупными хлопьями. Путники были белы. Татарчонок играл в снежки. Парк. Полаиванье собаки. В зданиях коммуны взмигивали огоньки.
В ту же ночь в лесу и ближайших деревнях милицией была организована облава, не давшая никаких результатов.
* * *
Коммуна получила новые заказы. Их поступало много. От некоторых, после обсуждения в цеховых комиссиях, пришлось, за невыгодностью, отказаться. Отказались также и от заказов сложных, требующих высокого навыка рабочих. Мастера на заседании сказали: «Эти вещи, дай бог, через год научиться выполнять. А то возьмешь, в такую лужу сядешь, что и в ноздри вода пойдет».
С расширением производства увеличился и заработок коммунаров. Некоторые получали на руки до пяти — десяти рублей в месяц чистых, за вычетом стоимости содержания, которое тоже было значительно улучшено и обходилось по двадцати девяти рублей на круг.
Обороты кооператива также укрупнялись. Лавку перевели в бывшую чертову хату. Перед лавкой ежедневно большая очередь крестьян. Закупать товар ездили в город два доверенных из коммунаров, имея в карманах по нескольку тысяч денег. Один — бывший налетчик, другой — с шестью судимостями вор.
Раза два за покупками ездил в город и Амелька. Чужие, общественные деньги для него — святыня, как и всякая, не принадлежащая ему вещь. От бывших инстинктов хулигана и преступника в нем не осталось и следа.
Амелька не мало удивлялся своему преображению, он теперь высоко держал голову, стал лицом вдумчив и приятен, обхожденьем — уважителен, но временами заносчив. А на работу — лют.
Дядю Тимофея, торгаша, преуспеяние кооператива бесило. Однажды он явился на собрание кооперативного кружка и, поутюжив седую бороду, заговорил слезливым, покорным голосом:
— Вот что, граждане товарищи. Мы свое мнение о вас изменили. Вы очень даже сполитичные, хорошие люди и торговлю ведете складно. Милости просим, когда чайку ко мне, с медком. А главный постанов вот в чем: примите меня, ребята, в пайщики. Я и денег дам, и работать будем за милую душу воедино. Я — человек, ребята, хороший, справедливый. Попов не люблю, в церковь не хожу.
Молодежь в ответ злобно засмеялась.
— Как хотите, как хотите. Я не неволю, — покорно сказал торгаш, потом грохнул шапку об ладонь, крикнул: — Эх вы, подлецы, подлецы! Разорители! — плюнул и ушел.