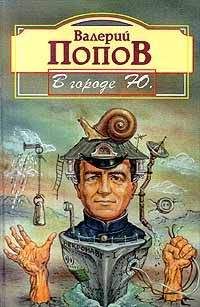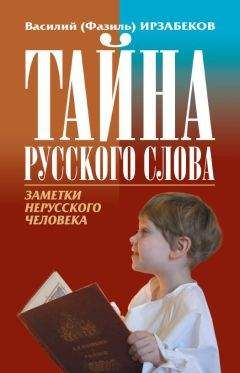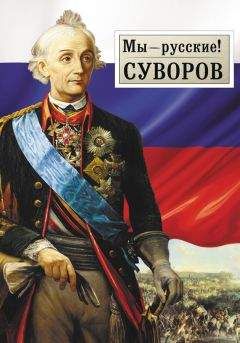Вячеслав Шишков - Странники
— Вот женюсь.
— Женись.
— Ну, прощай! — И Амелька с чувством победителя поднялся. — Дай пять! На заседанье будешь?
Она провожать его не вышла. Амелька слышал, как стул опрокинулся в ее комнате и сердито звякнул о поднос чайник. Амелька вернулся, открыл дверь, сказал:
— Слушай-ка, Маруся! Давай мириться. Помнишь, там, у костра? Теперь Катьки Бомбы нет. Да я и не интересовался ею. Сама лезла. А я вот о чем. Может быть, ты… это, как его… Ежели бы нас с тобой, понимаешь…
— Убирайся к дьяволу! — И девушка резким движением сорвала с гвоздя полотенце, чтоб вытирать посуду.
Амелька медленно закрыл дверь, стал спускаться по лестнице.
— Амельян! Схимников! — выбежала за ним Маруся. — Слушай! Ты на заседанье обязательно придешь?
— Приду. Я же сказал.
— Ну, спокойной ночи.
— Спокойной ночи.
Амелька вернулся домой в хорошем настроении: Маруся его любит, Маруся будет его женой.
Ночью, когда уже слипались глаза, его вдруг точно осенило. Нет, он не преступник, не предатель. А все его волнения последних дней не что иное, как боязнь мести бандитов: выследят, убьют.
Эти опасения его действительно вскоре подтвердились.
16. ЗИМНИЕ ТРОПЫ — ПЕРЕПУТЬЯ
После зеленых солнечных каникул потянулись для детишек трудовые будни. Из окон классных комнат ребята с тоской поглядывали на запорошенный снегом пустынный двор. Целый месяц они жили воспоминанием о даче. Рисовали деревню, цветистое поле, сенокос. Маленький Жоржик пробовал изобразить нагую Марколавну, но ничего не выходило. Тогда он шел с карандашом и бумагой к ней:
— Нет, вы мне не мама. Вы разденьтесь. Я забыл, как… Я срисую сейчас.
Инженер Вошкин тоже принялся рисовать девочку Иришку, мужичью дочь. Не доверяя впечатлительности глаза, он стал строить рисунок как технический чертеж. Измерил себе аршином длину ног, отложил по масштабу, измерил длину рук, тоже отложил. Пропыхтел так часа два и удивился: получилось черт знает что, — какой-то карась на ножках. В огорчении он приделал Иришке длинные усы, потом смял рисунок в комок, сказав:
— Факт… Не по характеру.
Характер Инженера Вошкина действительно менялся: мальчонка сделался вдумчив, шалости оставил, как-то незаметно вырос духовно и физически. Никто не знал, сколько ему лет: может быть, девять, а может, и одиннадцать. Читает, правда, плохо разумея, журнал «Наука и техника», купил за пятачок брошюрку: «Я сам себе химик». В мастерской, вооружившись циркулем, вычерчивает и клеит для малышей картонные конусы, пирамиды, призмы; со всем тщанием, под руководством Емельяна Кузьмича, иллюминует красками снятые в деревне планы. Ах, планы! Вот хорошие планы получились… Но иногда впадает в странное, малопонятное для взрослых, настроение.
— Иван Петрович, — однажды обратился он к заведующему, — вот я все думаю: лежу — думаю, хожу — думаю. Даже вчера в бане мылся, — и то думал. Мне глаза мыло страсть как щиплет, а я хоть бы хны, даже не заметил, все думаю и думаю фактически.
Иван Петрович слушал его, водил бровями вверх и вниз.
— Ты повторил слово «думаю» двадцать раз. У тебя мысль заикается. Должен говорить кратко, отчетливо, толково. Вынь из кармана руки!
— Извините, Иван Петрович! Я еще не развитый вполне, не совсем чтобы сознательный. А вот я про что думаю. Знает ли собака, что она собака, что ее собакой зовут? Вот я знаю, что я человек, и вы знаете, что вы человек, и всякий дурак знает. А вот — собака? Ну, допустим, какой-нибудь мопс знает, что он есть собака, а вот, скажем, пудель стриженый, в прическе, он, может быть, и не знает, что он — собака. Он, может быть, думает, что он, ну, скажем, — петух, или кастрюлька, или боров. Как это? Как они друг дружку-то? Вот, например, собака видит другую собаку: как она для себя думает, кто это бежит?
Брови Ивана Петровича застряли на лбу, под волосами,
— Собака должна подумать, что бежит «себе подобное». Не болтай. Ты слово «собака» повторил сорок раз.
— Вот и проврались вы, Иван Петрович: не повторил, а «посорокаразил».
Брови Ивана Петровича упали к переносице:
— Иди спать! Некогда…
Инженер Вошкин карасиком смылся, А заведующий буркнул в пустоту.
— Хм… Замысловатый бестия. Остромысл. Толк будет.
На другой день мальчонка пристал к воспитательнице:
— Растолкуйте, Марколавна, голубушка! Вот когда маленькая птичка улетает от ястреба, она его боится или ненавидит? Или она его потому боится, что ненавидит, или потому ненавидит, что боится? Только вы не подумайте, пожалуйста, что я ненавижу Ивана Петровича. Нет, я его люблю. Он славный.
Вскоре от Фильки и Амельки пришла посылка: коньки работы трудовой коммуны, выпиленная, вся в узорах, рамка для фотографических карточек, пенал для перьев, коробочка «ландрина». Филька слал три рубля денег, Дизинтёр — в чистом мешочке вкусных сдобных лепешек — пекла Катерина, жена его. Все было упаковано в общий ящик.
Амелька, между прочим, писал: «Рамку и пенал сделал сам из ясеня. — Коньки — наша продукция. Есть ли у тебя сапожишки? Ежели нет, пришли мерку с запасом, чтоб не жали. Я тогда вышлю, — нашей продукции».
Филька описывал свою новую жизнь, что он всем доволен пока, с ним живет и Шарик, только вот жаль, — нету дедушки Нефеда и милого, незабвенного Инженера Вошкина. Ну, да Филька надеется, что с Павликом им еще придется повстречаться. Была писулька и от Дизинтёра. Писал корявыми, нескладными буквами: «Мальчишечка, родненький, ну, как живешь, хороший мой ангел? Лепешки кушай всласть. Вот ужо приеду в город, привезу тебе медку, пчела нынче была медиста, да маслица привезу, да ватрушечек. Прощай, ангельска душа. Ты из мыслей моих не вылазишь. Живи в повиновении. Вникай к хорошему. Начальство слушай».
Инженер Вошкин это письмо поцеловал. Целый день, любуясь, играл вещами. В мешочке тридцать две лепешки: он три съел, девять роздал, остальные передал на хранение Марколавне.
— Боюсь, все сразу сшамаю, опучит и не буду есть казенного.
Все мысли его перебивались теперь давно заглохшими воспоминаниями о Фильке, Амельке, Дизинтёре. Он не знал, как отплатить им за добро добром. Он принялся за ответное письмо, но у него не было таких хороших, теплых слов, как у Дизинтёра, да ему, признаться, и не хотелось писать, — он и так, без слов, их любит. Он лучше пойдет устраивать во дворе каток, по «Науке и технике» определит площадь и сколько потребуется ведер воды на поливку. Да. Таких замечательных коньков, какие, на зависть всем, прислал ему Амелька, он и во сне не видел.
Вообще Инженер Вошкин чувствовал себя счастливцем. Марколавна за последнее время стала к нему чрезмерно ласкова; ласков и Емельян Кузьмич. Наблюдательный мальчонка подметил также, что они и друг к другу начали относиться по-особому, этак как-то, понимаете, «наоборот». Он значение слов: жениться, свадьба, муж, жена — знал смутно; поэтому внешние отношения Марколавны и Емельяна Кузьмича он сам для себя определил: «Наш Амельян маруху себе готовит. Только старовата. Эх, не дело! Дурачье!»
Действительно, Марколавна постепенно на глазах у всех чудесно молодела. Преображался и Емельян Кузьмич. Все юбки Марколавны становились на четверть аршина короче, запущенная же борода Емельяна Кузьмича удлинялась. Марколавна остригла себе, как мальчишка, волосы; они потемнели, стали казаться пышнее и гуще. Наоборот, хотя Емельян Кузьмич и старался выращивать шевелюру, смазывая голову смесью из медвежьего сала, керосина и касторки, однако голова его, к сожалению, лысела.
Наконец Марколавна, как говорится, зарвалась. Она однажды пришла на вечернее заседание раскрашенная под куклу. Щеки ее от излишка пудры матово белы, с легким румянцем, а на широких губах трепетали наведенные густейшей краской изящные крылышки херувима. Она высовывала кончик языка, чтоб по привычке облизнуться, но, тотчас спохватившись, быстро прятала его, зато мундштуки ее окурков покрывались следами краски, будто курила папиросы не женщина, а после зубодробительной драки хулиган.
Ивану Петровичу это не понравилось. Поздоровался, отвел ее в сторонку:
— Знаете что? Пойдите умойтесь. Нельзя же от любви так терять голову. И вообще-то раскраска лица — мерзость даже для глупых девчонок. А мы все привыкли вас уважать…
В общем же ничего плохого не произошло, все вскоре кончилось весьма благополучно.
* * *После обеда в квартиру Краевых вошла Маруся Комарова. Сам Краев еще не возвратился с охоты. Он, Амелька, татарчонок и двое из молодежи, благо праздничный день, с утра направились попугать зайчишек.
Жена Краева, фельдшерица, дружески расцеловалась с девушкой:
— Ну с чем? Голова, что ли, болит? Или зубы?
— Нет, Надежда Ивановна, сердце… — Маруся уткнулась в платок и, сконфузившись, рассмеялась.
Сидели в маленькой амбулатории, где Надежда Ивановна работала за врача, аптекаря и сестру милосердия,
— Надежда Ивановна, мне не с кем посоветоваться… Будьте матерью, — трогательно, с волнующей дрожью в голосе начала Маруся Комарова.