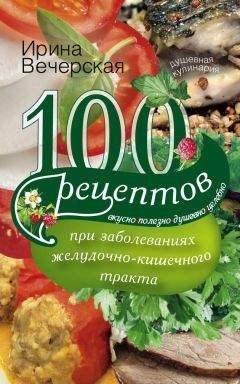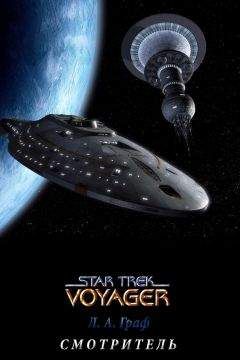Наталья Головина - Возвращение
Проблема и с Олей. Истово немецкий дух и аристократизм, как его понимала мадемуазель Мальвида («Извиняюсь за выражение, носовой платок» — иначе она не могла о нем сказать), ужасно, если это пристанет к Ольге. Герцен считал, что ей прививается старость и манерность. В будущее и вовсе не приходилось заглядывать. Он угадывал, что Мейзенбуг «мягко ненавидит» все его самые дорогие убеждения и «спасает» от них Ольгу, увидеть ее преуспевшей было бы для него подобно катастрофе 52-го года…
Масштабные интересы спасли бы дочь. Но чем им заняться с Мейзенбуг? Деятельность ведь не выдумаешь, понимал он. В приморскую непогоду в Ницце мадемуазель воспитательница перемогалась. И они намекали об отъезде… Что же, Александр Иванович не хочет держать при себе дочь всего лишь по закону. Не верит в такое свое право, если душа ее с Мейзенбуг. («Кукушка наоборот, унесшая птенца!..») В дочери уже проступала та же, ее, нетерпимость, облеченная в мягкие слова. Наконец Оля высказалась откровенно: «Вы не должны разлучать меня с матерью!»
Он без гнева, но с грустью смотрел на нее. Дочь была «породиста» и красива. Она неглупа, но, по его наблюдениям, страшно занята собой. (Она станет впоследствии благополучной супругой деятеля французского просвещения Габриэля Моно.) Чтобы Оля не забывала язык, Александр Иванович с Татой подбирали для нее русские стихи. Она принимала их как лекарство.
Они собирались с фон Мейзенбуг в Париж, где дочь хотела брать уроки у певца тамошней консерватории, и, может быть, она поступит на сцену. На обучение ей нужны были четыре тысячи франков. Голос у Ольги был скорее камерный… Герцен вынужден был сказать, что средства на образование — его долг, но на праздные развлечения невозможно. Они уедут вскоре просто жить своей жизнью… Да, «главная жизнь в детях!..».
Шла зима 1868 года. На душе у него было тускло. Штормило. И, как обычно возле Наталии Алексеевны, воцарилась нервозная атмосфера, в силу чего все капризничали. Он очень устал в жизни… Его приводило в отчаяние ее стремление все декларировать и бесконечно выяснять отношения. Она не замечала, как они рушились при этом. Ей нужно было все проговаривать. Их жизнь была изустной. Но ведь должна же быть такая простая вещь, как фон обыденного доверия, на котором можно что-то не заметить и простить, просто пощадить иной раз…
Вновь вспомнилась царственность души той. Она умела «не замечать» и терзала не других, а себя. Неприметно отошла от него душою, когда давление жизни стало слишком велико, он не сумел вернуть ее, разучился в ту пору снимать с ее души избыток тяжелого… Он понимал сейчас с новой остротою, что любил только одну женщину и что эта любовь продолжается, как в первый день.
Было опубликовано в полном объеме завершенное наконец «Былое и думы». И в ответ откликнулся письмом Иван Сергеевич Тургенев. Выверенно и слегка принужденно после многолетнего охлаждения возобновилась их переписка. Он высказал о «Былом», что оно «горит и жжет» и что у Герцена есть это умение — «провести черту по сердцу читателя». Иван Сергеевич прислал ему свою фотографию. Герцен долго вглядывался в нее: «Состарился, совсем седой, но сохранил прежнее благородство черт».
Уже шесть лет, как семейство Виардо переселилось в Баден. Тургенев построил небольшой флигель рядом с их домом — поскольку большую часть дня он проводит у них. Почти каждую весну или лето ездит в Россию, и Полин пишет ему туда длинные письма. Карьеру певицы она завершила десять лет назад. Как многие южные женщины, она уже нехороша… И воспринимает это как свою драму; правда, это непросто заметить в ней. Под конец жизни она привязалась к Ивану Сергеевичу. И он окончательно сказал себе теперь, что нужно оставить мысли о счастье. «Должно учиться у природы ее правильному и спокойному ходу, ее смирению. Все затихло, неровности исчезли. Отчего это сделалось — долго рассказывать — притом годы взяли свое. Когда меня видят, удивляются моей уравновешенности. Какая там под ней горечь застыла — к чему до этого докапываться — ни в одном человеке не нужно докапываться до дна».
…Такое еще событие в герценовской жизни: громкий успех имела в Париже театральная постановка его «Доктора Крупова». Тамошние знакомые писали ему, что мгновенно крылатыми выражениями в городе стали «родовое безумие рода человеческого» и «чиновничество — это специфическое поражение мозга».
…Мучительство в их семье становилось общим занятием. Особенно ранящей для Герцена оказывалась жизнь во второй половине дня, когда он оставлял письма и книги. Застарелая желчь уже не разливалась в нем, а мучительно перегорала. Разве что Тата теперь как могла сглаживала углы. Но умоляла отпустить ее из Ниццы. Александр Иванович в ту пору ощущал какую-то болезненную расплывчивость всех чувств, которую он никак не мог привести к отчетливости и ясности. Он был словно отравлен… Не мог ни на чем сосредоточиться.
Наталия вновь было решила уехать куда-то с дочерью и жить отдельно. Однако ночью, к неописуемой радости девочки, кошка родила пятерых котят, и Лиза категорически отказалась покинуть их. Наталия осталась.
(Раздраженная и обвиняющая, постоянно призывающая смерть, Наталия Алексеевна в дальнейшем заставит дочь возненавидеть ее. Много спустя после смерти отца, в Лизины семнадцать лет, единственной ее привязанностью в пику матери станет их знакомый — сорокачетырехлетний, знаменитый, кокетничающий с нею и наконец, обеспокоенный обожанием девочки, решивший отдалиться от нее автор труда «Физиология страстей» француз Шарль Летурно. Оставив ерническую записку, чтобы наказать его… всех, Лиза покончит самоубийством. Снова Герцен, если понимать под этим — использующий чувства и играющий в них…)
…Наступило, казалось, некоторое потепление семейных отношений. К весне дочери и Наталия по причине слишком большой дозы вакцины (модная в ту пору новинка) переболели оспой. Заболела неопасно также и Лиза и отчего-то при этом стала весела… Наталия самоотверженно ухаживала за Татой (у той болезнь протекала тяжело), что послужило началом осторожного сближения между ними. Наталия-Тата Герцен говорила о ней впоследствии: «Нужно помнить, что она страдала и что все-таки ей были присущи и хорошие стороны». Но затем… «Мирно-бурный» разговор с Наталией Алексеевной вновь показал, сколь глубоки противоречия между ней и Герценом.
Александр Иванович отправился в Париж по издательским делам. Его догнало письмо Наталии Алексеевны, которая решилась ехать за ним: «Быть может, кто-нибудь из нас двоих уже близок к концу…» (Она имела в виду себя.)
Старшая дочь вновь теперь жила во Флоренции.
И вот однажды в ноябре пришла весть оттуда. Первая телеграмма сына была невнятна. От второй у Александра Ивановича зашлось сердце. Немедленно он отправился на дебаркадер железных дорог. Сорок часов в поезде и в дилижансе провел в оцепенении.
Тату он нашел в горячке и бреду. Отца она узнала… Но слова ее были бессвязны. Приезд его поверг дочь в еще большее замешательство, она умоляла всех подтвердить, что для него нет серьезной опасности в их доме. Она боялась за отца, за Сашу, а также за Гуго Шиффа как за «возможного соперника». Пенизи угрожал ей местью. Здесь, в Италии, она очень реальна: не далее как на днях наемные убийцы в их городе зарезали одну девушку и ее родственников…
Стало наконец проясняться случившееся. Происходило… кружение дочери в здешнем карнавале. Она порой переписывала и правила переводы для красивого сероглазого слепого Пенизи. Слепнуть он начал в шестнадцать лет и сохранил довольно много впечатлений о мире. Артуро Пенизи был среднего роста и изящен, на последние деньги отменно одет, играл на фортепьяно и сочинял музыкальные пьески, он из разветвленной, нищей и тщеславной корсиканской семьи. Он сделал Тате предложение. (Огласки тому не было.) И, по словам его приятеля и врача Левье, был помрачен отказом. Врач просил Тату для его постепенного успокоения не отталкивать его окончательно.
Было ли в ней отвращение к Пенизи? Она же русская, она испытывала к нему огромную жалость, которую в иные минуты возможно было принять за что угодно. Сценка: он схватил ее руки… и она не отдернула их, он торжествующе сжал ее в объятиях. Очень вовремя стукнул чем-то в соседней комнате кельнер… Пенизи нужен был повод считать ее — уже обязанною. На другой же день он предъявил права и стал грозить Тате. Нужно ли говорить, что все кити володимеровы и прочие светские знакомые исчезли как только запахло скандалом…
Тата оправилась от бреда, но казалась подавленной и сникшей. Доктор Левье порвал со своим приятелем. И всех в городе также возмутил шантаж Пенизи, мнение было однозначным: он бил на деньги. Герцен считал, что дочь сама изрядно виновата. Но от этого не легче… Гуго Шифф полюбил ее за время болезни еще сильнее, а вот Мещерский уезжал. И она поняла теперь, насколько была к нему привязана… (Тогда к чему же было так мудрить?.. Но Александр Иванович удержал свой упрек при себе.) Врачи радовались ее скорому выздоровлению. Он же видел, что у дочери лишь внешняя сдержанность…