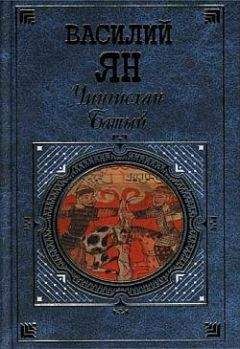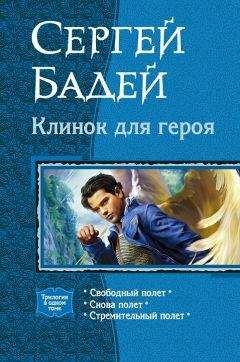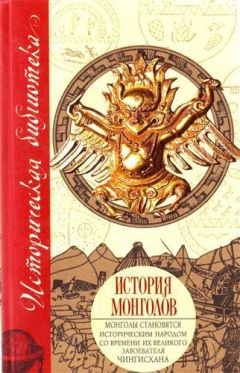Олег Широкий - Полет на спине дракона
— А ты когда-нибудь жил в овечьей шкуре, зная, что это навсегда?! Ты когда-нибудь во сне бился головой о стены чёрной пещеры, зная, что это — навечно? Ты чувствовал, как делаются всё слабее твои хищные зубы, стираясь об острую траву, которой кормят овец? — Даритая вдруг охватила ярость на этих зажравшихся нухуров, которые имели всё, что нужно для того, чтобы не задохнуться — битвы, врагов, кровь и ветер, а ещё — гордость воина. В своей разжиревшей наивности они даже не ведали, что бывает по-другому. Что кто-то живёт без войны, без риска, в пресной мути однообразного тягла.
Ничего не нашёлся возразить Хачиун. С ним случилось самое неприятное в подобных историях — юноша ему понравился.
Теперь он чувствовал себя не сволочью — палачом, что тоже не лучше.
Уж так устроен мир, что палачами себя чувствуют кто угодно, кроме тех, кто на самом деле ими являются. Настоящие убийцы и палачи представляют себя спасителями.
Один из таких — в подтверждение самых грустных ожиданий Хачиуна — вызвал его в ту самую, тёмно-синюю (под цвет Неба-Тенгри) юрту, вокруг которой все ходили правильными кругами, как светила по небесному своду. Дабы воля этого самого Неба не подтянула счастливчика поближе к себе.
Младший Хранитель Ясы (а по-простонародному — стервятник), тот самый, который так долго присматривался к его злополучному десятку на смотре, восседал на безликой кошме. Одет он был тоже скромно — без любимых Гуюком кричащих украшений. Так они подчёркивали своё презрение к пустой роскоши.
Хранители жили в войске вольготно. Даже сладострастные глаза Гуюка тускло гасли про виде этих тёмно-сизых, с красными обшлагами халатов. Они никому не подчинялись, кроме Верховного Хранителя Ясы — непогрешимого Джагатая. И, конечно же, имели привилегию советоваться напрямую с Сыном Божиим Чингисом, который, похоже, скучал на своих Небесах. Потому что не было ещё случая, чтобы тот, на кого упал доброжелательный выбор Хранителя, туда не попал.
Во времена Темуджина наказание неотступно следовало за проступком. Величайший всегда следил, чтобы никого не наказывали зря, иначе люди терялись и не ведали, как себя вести. Загнанный зверь должен точно знать, с какой стороны загонщики — иначе не выскочит под стрелу, уйдёт. К чему паника? К чему метания? Горный баран, например, должен гордо и уверенно следовать к той пропасти, которая ему судьбой суждена, и не отвлекаться.
Несторианским священникам такое не нравилось — и вот почему. Получалось, что люди сами выбирали свой путь, то есть от них самих во многом зависело, попадут они под наказание или нет. Это рождало излишнюю гордыню, которая всегда опасна.
Последующие события показали, что они были правы... Поскольку где у нас главный очаг строптивости и крамолы? Правильно... Среди монгольских ветеранов, тех самых, выпестованных и воспитанных ещё Чингисом.
Воин Христа (ох, простите, Великого Тенгри, пока ещё Тенгри, хе-хе) не должен был гордиться тем, что он дисциплинирован и непогрешим. Все погрешимы, кроме Всевышнего, никто не вправе об этом забывать. Воин должен не гордиться, а униженно благодарить Бога за то, что тот его не карает, не сегодня карает.
Итак, наказание не должно следовать за проступком. Оно должно опережать проступок. Так согласился устроить Гуюк, по крайней мере, у себя, в своих тысячах, послушав совета несториан. Впрочем, ему самому такое тоже очень пришлось по сердцу.
Сотник не распластался перед Хранителем так, будто перед ним сияющая вершина. «Уничижительность хороша перед Небом, а мы тут все — скромные его слуги, равные в своём ничтожестве». Именно такой ритуал ввели Хранители, по крайней мере, по отношению к самим себе. Они свято верили, что придёт время — потащат они на верёвочке в яму и этих зажравшихся светских ханов. Вот тогда и обвинят новые хозяева улуса в непотребной гордыне и Гуюка, и самого Угэдэя, и прочих подобных сластолюбцев и пьяниц. Но такое — в розовой дымке далёкой мечты, а пока они просто верные слуги не ханов, понятное дело, а Закона.
«Веселитесь, величайтесь, завоёвывайте для нас чужие народы...» — терпеливо выжидали Хранители.
— Отчего не заходишь в нашу юрту, — радушно расплылся хозяин, как будто любой десятник мог вот так запросто, по-соседски, сюда прийти, разве что с доносом.
— Солнце наблюдают издали, чтобы не сгореть в его лучах, — произнёс Хачиун обычную фразу лести и похолодел. То, что звучало в других случаях как безобидное приветствие, здесь, в стервятниковой юрте, было неслыханной дерзостью, прямым намёком.
«Погиб я, погиб. Что теперь будет?»
Но, похоже, Хранитель был слишком сосредоточен на чём-то своём...
— Солнце — там, — указал он пальцем в Небо, — а здесь не горячо, здесь по-дружески тепло. Не правда ли, Хачиун?
— Да... — спохватился тот, — тысячу раз «да». Для всякого честного слуги Бога и Его Сына Чингиса это так. — Хорошо пот под волосами не так заметен, а то ведь: «боишься — значит, виноват».
— Так-то лучше, — приветливо улыбнулся хозяин, — по итогам смотра твой десяток лучший в сотне, джангун тебя хвалит.
Хачиун облегчённо поклонился — может, на сей раз проскочит беда мимо?
— И поэтому я хочу, чтобы ты сердцем принял мою заботу, — продолжал Хранитель затягивать в болото. — Желаю тебе и впредь оставаться таким же добрым слугой, но...
— Но... — скрывая вновь налетевший испуг, повторил Хачиун.
— Разве не мудро наказать за проступок до того, как он совершён? Этим мы лишаемся ущерба от несостоявшегося проступка.
«Не проскочит», — приуныл десятник. И на сей раз предчувствие его не обмануло.
— Тебе выпала великая честь обезопасить свой десяток от преступления до того, как оно будет совершено. Завтра тот, на кого падёт твой выбор, отправится в небесное воинство и пополнит летучие тумены Божьего Сына. Иди, Хачиун, и гордись этой честью — не всякому она выпадает.
Последние слова звучали для Хачиуна как будто из облака. Он, покачиваясь, вышел на холод, грязный снег казался горячим.
На утоптанном снегу замерли тысячи. Пеший строй не производил впечатления литого — монголам привычно держать равнение стремя в стремя, а не плечо к плечу. Скорее строй напоминал пожухлую траву, дрожащую под слабым ветром.
Верхами только Гуюк-тайджи, тысячники и ближние нойоны. Царевич любил швырять свои чугунные фразы в бесконечное море голов — их сегодня хорошо видно с высоты седла. Мерлушковые шапки — не шлемы — были на большинстве стоящих, и Гуюк поймал себя на зыбкой мысли: незащищённые головы — это хорошо. Нечем укрыться от его тяжёлых слов.
— ...и пусть не сомневается Величайший из людей... вера и отвага не оскудела в сердцах... последователей его Нетленного Дела. Сегодня мы делимся с ним нашей удачей, нашей славой, чтобы она вернулась к нам удесятерённой...
Тишина проглотила последнюю рваную фразу. Резко вскинутый на дыбы саврасый — как у Чингиса — жеребец взболтнул морозный воздух точёными ногами.
— А теперь пусть выйдут те, кто обретёт завидную долю пополнить небесное воинство Потрясателя!
Под заревевшие вразнобой шаманские бубны стали выползать счастливчики. Имеющие силы поддерживали тех немногих, у кого отказали ноги. Им предстояло пройти меж двух очистительных костров, нырявших своими рыжими языками в уже вылизанные ими почерневшие проталины. Под капризными порывами ветра пламя металось как сумасшедшее. Волхвы Тенгри, а также татарские и джурдженьские шаманы вглядывались в огонь с неподдельным интересом. Они были похожи сейчас на поднаторевших знатоков, наблюдающих за праздничными скачками.
Даритай дрожал от холода. Почему-то казалось, что когда ему, по обычаю, резко вырвут сердце, сразу станет теплее. Вдруг вместе с дрожью нахлынула жалость не к себе, а к тому несчастном нухуру, вместо которого он сейчас умрёт. Ведь теперь тому несчастному уже никак из конюхов не выбраться. Нет больше в десятке воина с именем Чимбо.
«Вот дурачок, — подумалось вдруг Даритаю, — он вообразил, что я вместо него рискую, а мне что? Убьют, и ладно. А он попался. Узнает, каково прозябать боголом — ещё пожалеет. Это он из-за меня на самом деле рисковал, не я из-за него».
Даже сейчас Даритай ни минуты не жалел ни о чём: «Хотел стать воином земным, а стану воином небесным. Будучи ребёнком, я спасал себя любой ценой, дурак, теперь поумнел».
«Бессердечных» оттаскивали, складывали в ряд. Они лежали на брёвнах будущего костра, некоторые ещё продолжали выгибаться, будто танцуя лёжа, в такт бубнам. Облачённый в долгополую накидку жрец, побрякивая подвесками на ветру, сносил трепещущие сердца к отдельному алтарю. Его взмокшие, почерневшие руки никак не вязались с торжественной миной на лице. Одна из будущих жертв вдруг завопила, когда он к ней приблизился, — к ним заботливо кинулись кешиктены. Стоящий рядом с Даритаем долговязый парень презрительно хмыкнул и прикусил губу — с неё стекала багряная струйка.