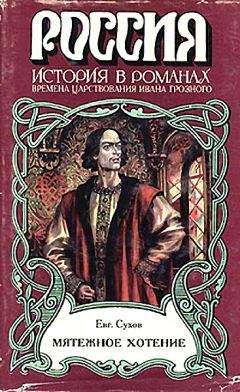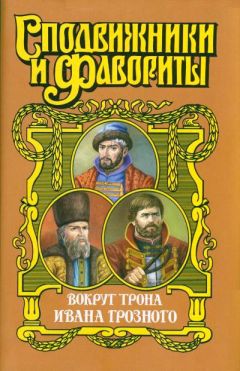Всеволод Иванов - Черные люди
Ох, горе, горе!
Только перед самым Рождеством увидали Петровы Енисейский острог. День был ведреный, ясный, мороз, небо голубое, в нем искорки ледяные; ехали ходко по льду, торосы на Енисее стеклянные, синие, зеленые, на берегу по угорам березы все в белом инее, ровно невесты под фатой.
И на белом холме над тыном бурым с пятью башнями блещут крестами четыре церкви Енисейского острога, да монастыри, да с холма ровно просыпались курные избы посада, дым стоит. Пара коней с грохотом несет кибитку, в ней протопопица с ребятами; за кибиткой — розвальни, там сам Аввакум со старшим сыном, стрельцы в шубах, да позади еще розвальни с поклажей — узлы, сундук, чемоданы с Москвы да ества, что еще в Тобольске друзья натолкали. Тихо, морозно, светло, и слышно только, ровно дятел стукает: Тюк-тюк-тюк!
— Что за стук такой? Топоры? — спрашивает протопоп стрелецкого десятника, что их на волоке встречал, Сергея Беклемышева.
— Лодки строят! — ответил Серега, бараньей шапкой мотнув к берегу. — Рать о весне пойдет на них… государь указал!
Подскакали сани ближе — видать, лежат на стойках матицы будущих посудин, торчат вверх корчи[124], у иных как ребра поставлены уже опруги[125], настланы днища, а у тех и палубы, кой-где и дерева[126] стоят с колесьями-солнцами наверху. Гомозятся по берегу работные люди, пар от дыханья вьется. Весело!
Вскакали кони на холм, нырнули сами под обхватные бревна башни мимо воротного караула, в овчинных шубах с ожерельями, с бердышами, провизжали по мерзлым бревнам, выехали людным торгом на Соборную площадь, подкатили к Приказной избе…
— Тпрру!
— Выходи, отец протопоп, — сказал Серега Беклемышев, сымая шапку и кланяясь. — Доехали, молись богу. Пожалуй к воеводе!
Ребята Протопоповы сыпанули из кибитки как воробышки, за ними лезла протопопица с Ксюшкой на руках, в черном платке, миловидна, румяна, востроглаза; в розвальнях во весь рост поднялся протопоп, вытянул из-под сена посох с серебряным оголовьем-яблоком, вышел, стал.
— Ступай вперед! — приказал он Беклемышеву. — Показывай путь! — И пошел за стрельцом сквозь сбежавшуюся глазеющую толпу русских — в нагольных шубах, полушубках, азямах, остяков да тунгусов в меховых совиках да кухлянках.
Шел высокий, в черненой овчинной шубе, скуфье, отороченной куньим мехом, опирался на посох, придерживая левой рукой наперсный деревянный крест, шел, полный достоинства и благости.
Толпа шевельнулась, замелькали снимаемые шапки — первая, вторая… Протопоп между двумя крашеными столбами подымался на крыльцо.
В Приказной избе все так же, как и на Руси во всех приказных избах. Перед Спасом — лампада. Толокся, вздыхая, смотрел испуганно или дерзко народ, ждал приказаний, куда укажут. Дьяк сидел за столом, подьячие — по лавкам— строчили листы на коленях, приказные шныряли по избе, гудели и толстыми, и осиными голосами. За столом под красным сукном, запустив лапу в бороду, сидел сам воевода Пашков, Афанасий Филиппович, сед, курнос, толст, ликом желт, глаз с прищуром.
Подошел к столу протопоп Аввакум, могутный, полуголовой выше всех, улыбается добро, помолился на темного Спаса, кланяется воеводе. Воевода с места поднялся, прошел круг стола.
— Протопоп, ну, благослови!
И стали оба, протопоп да воевода, друг против друга, смотрят в упор…
Хоть был и прислан с Москвы воевода Пашков, а птица он не высокого полета, боярскую-то спесь ему кормить нечем: Трубецкому, Шуйскому, Хованскому он уж никак не в версту. Те — куда там! Они родовиты, они место свое у царя блюдут, у них в отчинах да дединах великие деревни, без счету мужики, и владеют они ими исстари. Ано им и под царский гнев попасть не страшно, волосы разве долгие отпустят, бороды чесать да стричь не будут, в поместьях дедовских отсидятся. Служба им, таким, легка и доходна, сидят в Москве, приказами ворочают, либо государевы полки водят, либо в посольствах за рубеж ездят.
А он, Пашков Афанасий, хоть и с Москвы прислан, да из худородных он. Своим горбом, службой по дальним городкам да острожкам, жестокой войной пробивал себе дорогу к воеводству, на все шел, абы только к старости хоть в стольники выбиться.
Умел Афанасий Филиппович из людей прибыль государеву выжимать, словно жерновом вымалывать, — недаром не два года, а целых пять лет просидел он в Енисейском. Было до него там две церкви — он еще две пристроил, к монастырю второй добавил — женский Рождественский, стены острога укрепил, домов два ста новых поставил — и все это без казны, трудами енисейских людей… Да, заботясь о государевой же прибыли, поставил он себе завод — водку сидеть.
Хорошо помогала государевой казне водка не только у русских, а и у остяков. По дешевке на водку-то мягкое золото — меха — выменивали, соболя, горностаи, чернобурки нипочем брались.
Стало тесно Пашкову-воеводе в Енисейском уезде, он уже протянул руку за. государевой прибылью дальше — по Ангаре и Байкалу, ставил там острожки, садил там своих людей, объясачивая население суплошь, прибирал на это вольных казаков, охочих, смелых людей, шел упорно на всход солнца.
Шли они к нему спервоначалу. Маячили впереди приветно вокруг Байкал-моря нетронутые леса, богатые пашенные земли, хлебные, скотные, собольные неизведанные прибыльные места! Подводи он такую полуденную забайкальскую землицу под высокую руку московскую, будет воеводство на славу, не то что тебе Мезень либо Кевроль! И от Москвы честь, и от Москвы далеко, сам себе сиди здесь хозяином.
Да было еще одно дело — Амур.
С Амур-реки, что течет под самое Богдойское царство, торг можно завести прибыльный, не хуже, чем по Волге через Астрахань.
Хабаров-то опытовщик туда давно своей волей ушел, слышно — сильно богател со своими охочими людьми да с вольными казаками. Дон думают они там новый завести с казацким вольным обычаем либо новогородские порядки. Нешто это можно?
Писал давно в Москву Пашков-воевода, что пора тех людей на Амуре укоротить, обратать. Он, Пашков, готов это сделать, ежели его туда пошлют, чтобы на Амуре те люди зря не озоровали, меж собой да с богдойскими людьми драк бы не вели, а были бы государю прибыльны. Слышно — много они там, на Амуре, добычи добыли. На Амур с Москвы проехал дворянин Дмитрий Зиновьев — сказывал ему, воеводе, что государь шибко доволен Хабаровым, посылает ему гривну золотую на шею за усердную службу, а его людям — по серебряной… Да на угощении, под хмельком, шепнул Зиновьев Пашкову под рукой, что Хабарова, устюжского человека, оттуда, с Амура, снять нужно — больно волен!.. А потом и впрямь провез Зиновьев Хабарова в Москву под караулом. Воеводой бы сести ему, Пашкову, на Амуре, в острожке Албазине, что Хабаров ставил!
Смотрит воевода на протопопа, что с Москвы прислан… Ох, ладен! Нужен бы ему такой! Все нужно к государеву делу: ратные люди нужны к бою, сохи, топоры, котлы, иглы — к торговле; крючки, сети, остроги, луки, копья — к рыбному, к звериному лову… А как же на чужбине без попа? Нужны и попы. Нужны к ловле, к умирению душ, к земскому строению, к смерти, к рождению, к государевой прибыли.
«Видать, не пьяница, хорош будет к делу… Патриарх, вишь, его гонит, да ихние поповские дела кто разберет? А тоже сказывали — протопопа сам царь знает и любит. Ишь как поп смотрит смело, не то что наши свечкодуи. Ехать такому протопопу в Якутск нечего».
Глядит на Пашкова-воеводу и Аввакум-протопоп. Московские парчовые брюханы — те спесивы, гордоусы, на землю не смотрят, нос кверху дерут. А этот — мужик себе на уме, лба без пользы не перекрестит, а как служить будешь— по-старому аль по-новому, — ему не все одно? Он о своем старается, далеко не смотрит, только ты его не замай!
Оба стояли они друг перед другом, сильные, с сединой в бородах, испытанные в службе царской и в боевой службе духа, — видели друг друга насквозь.
«Что ж, — подумал протопоп, — любил ты, протопоп, со знатными знаться, теперь люби терпеть, горемыка! Кая польза сему скимну рыкать, коли он все о прибылях только думать может?»
Сверкнув из-под черных бровей медвежьими глазками, спросил воевода просто:
— Поп ты или распоп?
Ответ был краток:
— Аз есмь Аввакум-протопоп!
— Добро! — поиграл пальцами в бороде воевода. — Кто вас разберет! У нас в Сибири люди всякие, не в Москве!
Не отводя сверлящих глаз от протопопа, воевода медленно опускался в кресло за столом.
— Ты, сказывают, противу патриарха лаешь? Аль не знаешь, что патриарх — царев помощник, а ты его поносишь?
— Патриарх превыше царя хощет быти! — говорил Аввакум, медленно подходя к воеводскому столу, уперся воеводе в глаза — кто кого пересмотрит?
— Брехня! — усмехнулся воевода, перебирая на столе бумаги. — Да кто выше царя? Един бог! Чего лжешь? Кто государство строит? Нами повелевает? Царь.