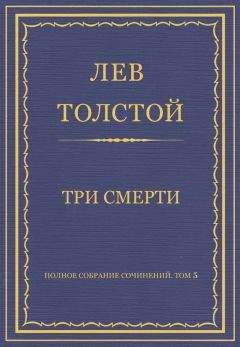Аркадий Макаров - Не взывай к справедливости Господа
Сено на чердаке путалось в волосах, травинки покалывали спину, руки, обнажённые бёдра, мешали каждому движению, но молодость неприхотлива и упоительна в своих желаниях.
Ах, война, ты война! Что ты подлая сделала?..
…Павлина Сергеевна, взмахнув от лица рукой, как отгоняют мух, сморгнула неожиданные воспоминания. Одинокая и затерянная, как сухая веточка ромашки в ворохе сена, она осталась на этом свете терпеливо доживать сиротскую старость.
«Вот и наседка куда-то запропастилась с выводком», – она прислушалась, стараясь уловить сквозь шум деревьев характерное квохтание, но, кроме утробного ворчания грозы да тревожного лепета деревьев, ничего не слышала. Заглянула в сарай, где, выпятив генеральскую грудь, ходил гоголем петух да несколько кур жались к насесту, посмотрела туда-сюда, – нет наседки! С тем и ушла снова в дом, оставляя за спиной редкие, но крупные и тяжёлые первые капли дождя.
В доме сразу стало темно и сыро, как будто тучи, влезая в окна, развешивали по всем углам свои мокрые лохмотья.
Пришлось включить свет, который в одно мгновение разогнал все навязчивые видения. «Куда-то Кирюша запропастился, голова бедовая?» – впервые назвав своего постояльца не Кириллом, как его называла до этого, а Кирюшей, она неожиданно поразилась тому, что неожиданно сравнивает его, сегодняшнего гостя, с тем, теперь таким далёким и негасимым образом…
Война смахнула, скомкала и растоптала её, только что начинающую жизнь, в бутоне, в самом первоцвете…
Как же, как же, писал когда-то Кирилл Назаров, будучи ещё молодым монтажником, на обшарпанном столе рабочего общежития, ломая карандаши, строки о войне, проклятой и великой:
«…Покоя нет на белом свете, как много лет назад:
– Огонь! – кричат в испуге дети. – Огонь! – кричит солдат…
Оборван крик. Солдат и воин лежит, к земле припав.
Коровкой Божьей капля крови на молодых губах.
Большой знаток огня и боя, ему сам чёрт – не брат,
устал от крови и разбоя… Ты отдохни, солдат!
Пока из мрака преисподней тебя на суд зовут,
свинец и сталь на свет Господний травою прорастут».
Того Павлушу, агронома учёного, ненаглядного и такого желанного, под широкой ладонью которого там, в пахучем пространстве деревенского чердака, сладостно томились её наливные девичьи груди, сразу же всосала жадная и чёрная воронка всеобщей мобилизации, бездонную прорву которой каждый день старались наполнить до краёв районные военкоматы.
В селе вдруг стало тихо и скорбно.
Даже тётка Марья, у которой не было ни мужа, ни сыновей, чтобы бояться за их жизни, и та, повязав чёрным платком голову, подолгу длинными вечерами простаивала на коленях перед забытыми до срока в повальном атеизме иконами. Вымаливала у Бога милосердие к русской земле и её шлемоносцам, которые, несмотря на все усилия, всё пятились и пятились назад, накапливая ярость для решающего удара.
Да, наверное, такова уж природа русского человека – надо долго колотить его по пяткам, чтобы основательно разозлить.
До боли в глазах смотрела молодая учительница, Павочка, в спину уходящего Павлушу, до первой слезы. Она тогда уже знала, чувствовала, что видит его в последний раз. Женское сердце – вещун.
Голубая даль, в которой скрылся ещё один солдат Отечества, всосала в себя душу ещё одной русской женщины, ни оставив никакой надежды на будущую встречу.
Потухшая и поблекшая, загребая босоножками придорожную пыль, она шла назад, в село, и чёрная стена печали, стена плача заслонила её от окружающего мира.
Были только – она и её печаль.
Не заметив поворота дороги, она переступила её и теперь уже шла по обкошенному лугу, где грядками лежали поваленные навзничь свистящей равнодушной косой неисчислимые травы, ещё вчера встречавшие солнце в полный рост, обрызганные росой и светлой синевой июньского рассвета.
Ближе к Дону, там, где одним своим концом село упирается в берег, трава в валках уже созрела, подсушилась, превратившись в добротное сено, а кое-где даже была собрана в копны.
На такую копну и повалилась молодая женщина, ещё девочка, печальница, сжавшись в комочек, как сжимается зелёный листок на огне перед тем, как превратиться в золу, в пепел. Девочка ещё до конца не сознавала, что с ней случилось, но чувствовала всем существом своим, ещё и не совсем женщины, что пыльная дорога, бегущая к горизонту, пересекла её, начавшуюся так хорошо складываться, жизнь.
Короткие вечера, проведённые под уютной крышей сеновала, привадили её к напористой мужской ласке, когда, раскрываясь, как набухшая почка под упругими струями парного весеннего дождя, вся её женская сущность тянулась к ней, к этой ласке, вбирая её в себя с пугающим и сладостным трепетом. Теперь она, как веточка, отсечённая от дерева, ещё зелёная, ещё обрызганная дождевой влагой, но уже обречённая, не распустившись своим первоцветом, сохнуть и вянуть под равнодушным к её участи небом.
Она очнулась от вечерней зябкости тянувшей со стороны Дона вместе с белёсым стелющимся по жёсткой стерне туманом. Отряхнув ситцевое платьице от налипших травинок, огляделась по сторонам.
Молчащая, пустующая даль немного успокоила её, и тяжело вздохнув, она пошла в сторону села, где востроносой безвёсельной лодочкой по тихой небесной заводи уже заскользил молодой месяц.
Тётка Марья сидела на приступочке у своего дома, обняв колени большими жилистыми руками. Увидев свою незадачливую постоялицу, она встала, обняла её за плечи, и по-матерински ласково погладила по голове:
– Ничего, детка, твоё дело молодое, лёгкое и печаль твоя лёгкая, как осенняя паутинка в воздухе. Ветер подует, и нет её, паутинки этой. Улетела! А я почти всю жизнь не мужниной женой жила, хоть и замуж вышла в шестнадцать лет, да за какого мужика! Бывало, когда ещё мы своим хозяйством жили, до колхозов этих, пойдём с ним в поле по делам каким, а он посадит меня на плечо и несёт так, посмеиваясь, до первой копны, а потом – в копну, да и зацелует до беспамятства. Очнёшься, а уж день-то к закату клониться. Семьи тогда были большие. Свёкор мой, ну, как нынешний председатель, строгий, страсть какой! Зачнёт ругаться, да кулаки перед носом сучить, что день задарма прошёл. Жуть берёт! А мой – всё – папаня да папаня! Лицо руками загородит и оправдываться зачнёт, как дитё малое. Такой смирный был. Ну, а потом, – эта самая революция, разруха, люди беднеть стали. Он, муженёк мой, хоть и телок не лизанный, а всё туда же – пошёл в Совет комиссарить. Откуда только такая прыть взялась, богатых шерстить, хотя при старой власти и мы жили ничего себе. А он, как заразился! Бывало, приедут верховые с продразвёрсткой – на поясе бомбы, в руках наганы, при саблях… Ну, и к нашему двору. Свёкор, царствие ему небесное, к тому времени уже упокоился. Мой – за хозяина остался. Не лезь он в активисты да в комбеды, и посейчас жил бы… Здоровый бугай был, что ему сделается? Прости, Господи! – тётка Марья, вздохнув, перекрестилась. – Приедут эти, верховые, да с обозами, сунут плётки за голенища, а ты, Марья, стол накрывай, гостёчков дорогих встречай, чтоб им пусто было! Самогонки выставь. И что он в них нашёл, в комиссарах энтих? Они – такие же люди, только, может быть, пьют поболее, да и побессовестней, чем наши, деревенские. Выпьют – материться зачнут: «Зажали, – говорят, – твою мать, кулаки грёбаные, хлебушек народный. Скопидомничают. Сами сожрут, не подавятся! Ну, мы у них закрома-то повыворачиваем наизнанку. Пойдём, Миколай, – это они уже к нему, муженьку моему, царствие ему небесное! – Пойдём, – говорят, – Миколай, интерцанал велит всё делить поровну. Богатых быть не должно! Весь мир насилья мы разрушим до основанья! Пойдём, Миколай! Ты, как представитель комбеда, бумагу изъятия подписывать будешь!» – Ну, Николай мой, тоже пристегнёт бомбы к поясу и – шасть со двора! Я его – не пускать. А эти, верховые, ржать зачинают: «Ты, – говорят, – Миколай, пролетарскую совесть на баб не меняй. Айда, по сусекам пошебуршим!» Ну, и увезут с собой подводы две-три хлеба. А после них по селу разговор нехороший шелестит, что мой Николай счёты с недругами сводит. Говорила я ему, – тётка Марья опять перекрестилась, – сними ты этот шишак с головы! Ну, будёновку со звездой. И бомбы свои в уборную забрось. Зачем связался? А вот он крайним и оказался. Раз – уехали эти верховые, а Николай мой в Совете какие-то бумаги подшивал, ещё нитки из дома брал. Ну и задержался допоздна. Я жду – нет его. Ну, думаю, в комбеде излишки кулацкие обмывают, засиделся маленько. Я уже засыпать стала. Слышу, – скребётся кто-то за дверью. И тихо так, как котёнок, голос подаёт. Я думала сначала, что это наш Васятка во сне постанывает. Дитё, Господи, жалко. Не досмотрела я дитя своего, Васеньку. Грех на мне. Не отходила его. От дифтерии он в тот проклятый год и преставился. Посинел весь. Впился ноготками детскими мне в шею, да так и застыл, – тётка Марья вытерла кончиком платка глаза и вздохнула тяжело-тяжело, продолжая дальше горестные воспоминания. – Ну, это… – смерть сыночка, потом было. А тогда слышу, скребётся кто-то за дверью, – она снова глубоко вздохнула, – ну, скребётся и скребётся. Котёнок – думала. Уснула кое-как, а утром отворила дверь – батюшки! Вот он, Николай мой! Ноги по нехорошему раскинуты, и лежит ничком, головой в мою сторону. Я ещё выругалась в сердцах, – как можно так пить, чтобы через порог не переползти! Запрокинула его навзничь, а у него из губ кровавые пузыри пенятся. Я – в голос! К соседям! Втащили его кое-как на постелю, положили под иконы, если что случится. Запрягаю лошадь, колхозов-то ещё не было, слава Богу, своя скотина, и – в район за фельдшером. Доктор приехал. Посмотрел. Покачал головой и велел не трогать его. «Крепись – говорит – Марья! У него позвоночник перебит. Он теперь, как дитё малое. Сам и ширинку, чтобы сходить по-малому, не расстегнёт. Так что – крепись Марья, и жди его часа, как пробьёт колокол. Может, с недельку и поживёт». А Николай-то, слышь ты, ещё ровно десять годков жил. Да, как жил! – тётка Марья горестно махнула рукой, – мучился только, а не жил. И по-малому, и по-большому сам опростаться не мог. Лежит бревном, да и только. А, что сделаешь, коль Господь такую кару послал? Николая-то кто-то из-за угла оглоблей перешиб. Из-за этих, верховых, что ли? А ведь я ему говорила – не комиссарь, Коля, не бери грех на душу! А он меня всё за тёмную считал. Неграмотная, мол, ты, Маша, поэтому дальше своего корыта и не видишь. А вот оно, какое корыто получилось! Полное слёз, мойся – не хочу! Эх, жизнь! – она прижала за плечи к себе заплаканную, горестную постоялицу. – Что поделаешь, коль такая оказия получается? Теперь вот германца держать надо. Без нашего воинства покромсает он, немец этот, землю нашу православную, где жить-то станем? Беда! Пошли в избу, там и горевать будем. Нам, бабам, только горевать и остаётся. Зябко тут! – И тётка Марья, звякнув щеколдой, повела девушку в мягкую, податливую темноту жилья.