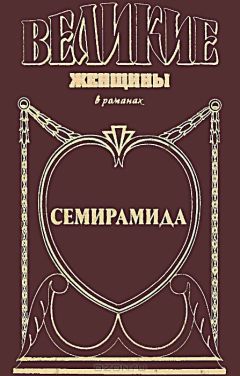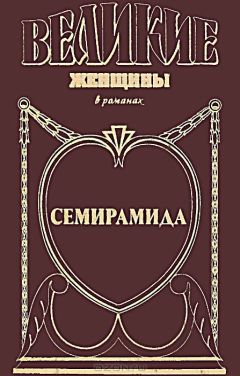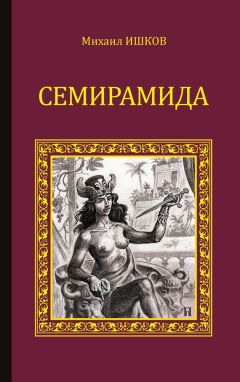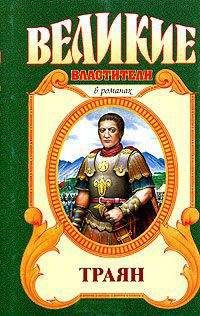Юрий Давыдов - Вечера в Колмове. Из записок Усольцева. И перед взором твоим...
Приняв писаные наставления, Рикорд приступил к расспросам о неписаных. Тут стало ясно, как жеребьевка подвела Головнина: Симонов был добрым малым, но ума-то недальнего. Бедняга позабыл все «разведданные». Как ни бился Петр Иванович, матрос талдычил свое: в письме, мол, прописано. И вдруг залился слезами.
– В тюрьме шестеро наших. Если не скоро вернусь, как бы японцы не причинили им еще горшей беды.
В тот же вечер Симонов оставил корабль. Он возвращался в застенок. А «Диана» возвращалась в Россию, в Охотск, за бумагами, которые требовало японское правительство.
6
Простак Симонов не умел удовлетворить и любопытства Головнина. А любопытство было особенного свойства.
Ни один парламентарий, ни один дипломат так не алчет политических новостей, как заключенный «непростого звания». И никто так не увязывает свою судьбу с течением политических дел, как опять-таки «непростой» заключенный.
Симонова встретил Головнин будто «выходца из царства живых». Василии Михайлович голодал не только из-за отсутствия частных, прямо до него относящихся известий, но и общих – о России. Ведь связь с внешним миром пресеклась не в годы затишья, не в историческом захолустье, а в годы катаклизмов. К тому же со слов голландских корабельщиков японцы передавали, что Москва взята французами и сожжена москвичами.
«Мы, – признается Головнин, – смеялись над таким известием и уверяли японцев, что этого быть не может. Нас не честолюбие заставляло так говорить, а действительно от чистого сердца мы полагали, что такое событие невозможно».
«Смеялись»… «Невозможно»… Но, смеясь и не веря, сознавали, что дом в огне, что дома происходит нечто необычайное. И вот является «из царства живых» вестник. Вообразите, как его ждут и чего от него ждут!
Уже много позже, при мирных свечах, за бюро сидя, Головнин незлобиво усмехнулся: «Симонов был один из тех людей, которых политические и военные происшествия во всю их жизнь не дерзали беспокоить». А тогда, в тюрьме? Ох-хо-хо, досталось, верно, Симонову попреков!
Какой бы восторг сотряс Головнина, если бы он услышал в своей мацмайской темнице, что Россия воюет уже далеко от России, что она в союзе с Пруссией, Австрией, Англией, что злая звезда Наполеона неудержимо меркнет. (Впрочем, будь Симонов и семи пядей во лбу, он бы не поведал о событиях лета и осени 1813 года: и на шлюпе, прибывшем из Петропавловска, ничего про них не ведали.)
А если кого и порадовал Симонов, так это своих же братцев матросов Михаилу Шкаева, Спиридона Макарова, Григория Васильева: десять раз пересказывал подробности своего отпуска на родном корабле, чем и «доставил великое удовольствие».
Второе пришествие Рикорда, усилия Такатая-Кахи, официальные заверения в дружбе, некоторые, хоть и смутные, слухи о победах русского оружия – все это решительно отозвалось на положении семерых арестантов. «Кажется, – пишет Головнин, – японцы перестали нас считать пленниками, а принимали за гостей».
Они зажили в светлых, чистых покоях, едали на «прекрасной лакированной посуде», им прислуживали «с великим почтением». Губернатор объявил, что уполномочен отпустить русских, если «Диана» привезет в Хакодате удовлетворительные ответы на «особые пункты».
Утром 30 августа 1813 года шестеро русских и айн Алексей Максимович «церемониально, при стечении множества народа» покинули город Мацмай. 2 сентября 1813 года шестеро русских и айн Алексей Максимович вошли «при великом стечении жителей» в город Хакодате.
«Здесь стали содержать нас, – повествует Головнин, – так же хорошо; кроме обыкновенного кушанья, давали нам и десерт, состоявший из яблок, груш или конфет, не после стола, а за час до обеда, ибо таково обыкновение японцев»
Итак, вроде бы амнистировали. И они испытывали то переменчивое нервическое, нетерпеливое состояние, какое испытывают амнистированные после указа об амнистии и до выхода за тюремные ворота. Все давно опостылело, а теперь и вовсе было несносно. Время и прежде ползло черепахой, а теперь и вовсе замерло Тоска и прежде грызла, а теперь и вовсе поедом ела.
Громко прозвучал сигнал
В гавани на корабле.
Громко прозвучал сигнал,
С моря он летит к земле63.
Вот этого они теперь ждали денно и нощно. Ждали, ждали… Но громкого сигнала не доносилось из гавани. И не летел трехмачтовый шлюп к Хоккайдо.
Три недели шел Рикорд из Охотска до Хоккайдо. Еще бы часов шесть-семь ходу, и «Диана» укрылась бы в безопасном заливе. Этих часов-то и не хватило. Штормовой ветер налился ураганной силой, лавировать было бессмысленно и опасно, спасти могло лишь открытое море. И желанный остров Хоккайдо пропал из виду.
Рикорд понурился: пора равноденственных бурь. Значит, улепетывать в Петропавловск? Значит, изживать еще месяцы и месяцы, зная, как ждут тебя в Хакодате? Но может быть, спуститься к Гавайям, зимовать в раю, а с апрельскими ветрами вновь достичь Хоккайдо?
Офицеры поддержали Петра Ивановича. Но курс на Гавайи означал курс на уменьшение ежедневной порции питьевой воды. На каких весах взвесишь, что легче, жажда иль голод? Но и матросы поддержали Рикорда: много терпели, еще потерпим, лишь бы скорее вызволить наших.
И все ж Рикорд медлил. Он медлил на авось. Чем черт не шутит, глядишь, и утихнет… А бури гремели двенадцать дней, двенадцать дней спорила с бурями команда. И переспорила. Как-то в одночасье все стихло, потянули спокойные переменные ветры. Редкостное и радостное исключение из сурового, жесткого правила.
На морях, как и в жизни, за светлое платят черным. Расплатились и на «Диане»: умер матрос, один из тех, кто давным-давно покинул Кронштадт. Его хоронили как православного: пели «Святый боже»; его хоронили как моряка: зашили в парусину, к ногам привязали ядро; его хоронили как близкого: плакали матросы, плакали офицеры, плакал Рикорд. «Не многие могут понять, – записал Петр Иванович, – каким чувством дружбы связуется на одном корабле маленькое общество, отлученное на столь долгое время от друзей и родственников».
Милость ветров сродни королевской: она не отличается постоянством, ею надо уметь пользоваться. «Диана» лавировала в прибрежных водах. Японцы прислали лоцмана. Прислали и шлюпки с пресной водою, рыбой, зеленью. От платы японцы отказывались. Потом с одной из шлюпок (она несла белый флаг, на ней горели фонари, дело было вечером) окликнули Рикорда. Петр Иванович узнал голос Такатая-Кахи. Кахи на днях отряс с ног острожный прах; его продержали под стражей, исследуя, не заразился ли купец иностранщиной. А сейчас «благородный и усердный» Така-тай-Кахи поднимался на борт «Дианы».
В обширном Хакодатском заливе шлюп окружило множество казенных гребных судов: их пригнала не любезность и не любознательность, а указание портового начальства – для караула.
Два с лишним года назад на острове Кунашир связанный по рукам и ногам штурман Андрей Ильич Хлебников указал своему командиру, тоже связанному по рукам и ногам, на залив Измены, на мачты и паруса «Дианы»: «Взгляните в последний раз…» Два с лишним года спустя, прильнув к окнам, штурман, капитан-лейтенант, матросы глядели неотрывно, как лавирует «Диана».
Из Мацмая без опозданий и проволочек, свойственных сановникам, приехал губернатор. Едва шлюп убрал паруса и отдал якорь, губернатору вручили документы, выправленные в России. Эти документы не отягощал ни царский, ни министерский сургуч. Их «скрепляли» подпись начальника Охотского порта Миницкого, подпись Трескина, иркутского губернатора. Переговоры, как начались, так и завершились на «губернаторском уровне».
Японцы поздравили Головнина. Казалось, беда, по слову поэта, «исчезла, утопая в сиянье голубого дня». Но в «голубом дне» бродила мрачная тень мичмана Мура.
Он рад был бы служить; японцы не приняли его в службу. Ему не тошно было бы и прислуживаться; японцы не приняли и в прислужники. В России мичмана ждал военный суд. Может, и не скорый, но правый. С появлением «Дианы» Мур судорожно потщился сорвать переговоры. Навета лучшего не выдумал, как опорочить бумаги, доставленные Рикордом: они-де полны угроз и непристойностей, они оскорбительны для губернатора и всей Японии. Ему не вняли. Он обреченно умолк64.
И вот день, пятый день октября 1813 года, навсегда запечатлевшийся в душе и Головнина и Рикорда, – день свидания. Оба тождественны в своих записках, предоставляя читателю понять, что они тогда испытывали. И оба запомнили, что разговор долго не попадал в ровную колею, хотя никто не торопил друзей и никто не прислушивался к их голосам.
Но, повествуя о столь примечательном и волнующем событии, Головнин не утрачивает чувство юмора. Василий Михайлович иронизирует над самим собою: офицерская треуголка покоилась на волосах, обстриженных в «кружок, по-малороссийски», сабля болталась на шелковых шароварах японского образца. «Жаль только, – шутит Головнин, – что в Хакодате, когда нам объявили о намерении японцев нас отпустить, я выбрил свою бороду и тем причинил немаловажный недостаток в теперешнем моем наряде».