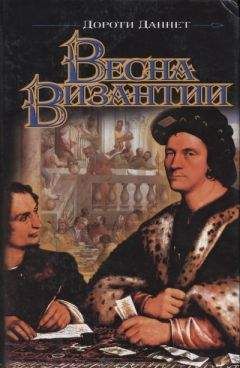Садриддин Айни - Рабы
— Но ведь есть же земли, где зима длится шесть месяцев. Шесть месяцев там льют дожди, валит снег, трещит мороз, метет метель, а ведь и там крестьяне сеют и пашут и собирают богатые урожаи! — сказал Бобо-Мурад тоном знатока.
— В тех землях крестьяне сеют зерно — ячмень и пшеницу, а овощи растут не на поливных землях. Там чем больше дождя, тем лучше. Им и летом там нужен дождь. А у нас говорят: «Летних дождей бойся больше, чем змей», — ответил старик.
— Эту зиму надо считать хорошей, — поддержал старика другой крестьянин. — Осень выдалась сухая, собрать урожай мы успели. Озимь посеяли. Два месяца шел сплошной дождь, а теперь сразу стало тепло.
— Вот-вот, — подтвердил старик. — Я шестьдесят лет на всякую погоду глядел. И считаю: зима была хорошей.
— Бай не о крестьянах тужит, у него своя забота, — сказал крестьянин по имени Самад, тачавший старые сапоги. — Половина нашей деревни прирабатывает ремеслом. Летом крестьянствуем, зимой работаем на Бобо-Мурада. Так? Бобо-Мурад скупает на базаре или у старьевщиков, что обходят деревни, старые сапоги по рублю за пару. Рубль дает нашему брату за работу, рубль платит за головки. Так ему пара сапог обходится по три рубля. Вот пришью я к старым голенищам новые головки, получу за это рублевку, а хозяин на базаре возьмет за них двадцатку. Нам рубль, а ему — чистых семнадцать. Так?
— Никакое дело не грех, — сердясь, ответил Бобо-Мурад. — Один крестьянствует, другой скупает урожай, третий продает рис, а я вот перепродаю сапоги. Каждый делает свое дело и заботится о своей пользе.
— Взять хотя бы погоду, — усмехнулся крестьянин. — Ведь и тут у нас с вами польза не совпадает, Бобо-Мурад. Когда потеплеет, крестьяне бросают сапожное дело и уходят на свои поля. У вас работа стоит. Вам это не нравится. Вы этого не любите. Вы идете к такому крестьянину с уговорами: «Ты, брат, брось свою землю на недельку. Дошей мне сапоги за эту неделю, а потом делай, что хочешь». Послушает вас крестьянин и упустит лучшую пору для пахоты, а там и с посевом не управится, а осенью, глядишь, соседи урожаи собрали, а у него не поспел, ему надо подождать, а тут вдруг дожди полили или мороз стукнул. Бывает так? Очень часто. А если не послушает вас крестьянин, отложит сапоги, тут вы свою пользу упустите. Так?
— Вовсе не так. Мне наплевать, когда станет тепло. Нынче или через неделю. Неделя ни тебе, ни мне ничего не даст. Если ты и работаешь для меня, так для своей же пользы, а не для моей.
Самад, размахивая сапогом, возразил:
— Нет, бай, если я за неделю пришью новые головки к шести парам голенищ, я получу за это от вас шесть рублей. Вот и вся моя польза. А вы на этом наживете больше ста. А я ведь не один. Тут на вас работает половина деревни. Если человек двадцать не послушаются ваших слов, во что вам обойдется неделя? Вот почему вам не хочется раннего тепла!
— Не говорите, бай, что только баи знают счет, — вмешался человек без бороды, до сих пор молчавший и с улыбкой что-то записывавший в своей книжке. — Благодаря Советской власти и ремесленники и поденщики знают теперь арифметику.
— А я что? Я об их же пользе, о крестьянской хлопочу. Сегодня они имеют от меня приработок, а завтра могут его потерять. В такое время мне эту пользу лучше не иметь, чем иметь.
— Какое же такое время?
— А такое! Жизнь с каждым днем хуже и хуже. Эмир убежал. Провозгласили Бухарскую народную советскую республику. А теперь Бухара соединилась со всем Туркестаном.[137] У людей отобрали и землю и воду. Что же тут хорошего? Право, не знаю.
— Знать-то вы знаете, да от людей таите. Вы им говорите только то, что их тревожит и пугает. — Захлопнул тетрадь безбородый, положил ее перед собой.
— Это как же так? — прикинулся удивленным Бобо-Мурад.
— А так. Выгнали отсюда вашего эмира. Вы забеспокоились. Стала Бухарская народная советская республика. До тех пор, пока не притронулись к вашему, нажитому на народном горе, богатству, к захваченным вами земле и воде, вы были спокойны. Вам можно было по-прежнему торговать сапогами, наживать деньги, прибирать себе новые земли, а беднота по-прежнему не могла обойтись без приработка и за этим приработком шла к вам.
К словам безбородого присоединился крестьянин:
— Да, у вас было право собственности, вот вы и прижимали бедняков, не только скупая у них земли, но и заставляя их работать на этой земле на вас.
— Это было третьей причиной для вашей радости! — сказал безбородый. — А когда Бухарская народная республика превратилась в советскую и затем, в результате национально-государственного размежевания, образовались Узбекистан и Таджикистан, вошли в Советский Союз, это испортило вам настроение. Земля стала государственной, ни продать, ни купить ее уже нельзя.
Крестьянин опять поддержал его:
— И нет теперь у нас ни помещиков, ни безземельных бедняков.
— Да! А вы тут охаете: «Бухара ушла от нас!» Куда ушла? Никуда! Она на своем месте осталась. Вы говорите: «У людей забрали землю и воду». У каких людей? Чью землю? Чью воду? Разве забрали ее у малоземельного Нор-Мурада? Разве тронули ее у остальных малоземельных крестьян? Да ни одной горсти не взяли, наоборот, прибавили!
— Верно! — подтвердил крестьянин. — Мне от отца досталось десять танабов[138] земли. В эмирское время я не мог рассчитаться по налогам и продал половину. Вам продал, Бобо-Мурад. Потом у меня умерла жена. Надо было устроить похороны и поминки.
Я продал еще половину. Опять же вам, бай! Потом, когда снова женился, для свадебных расходов продал еще часть. В недород я взял у вас, бай, два мана пшеницы. А когда она кончилась, я продал еще часть земли — рассчитаться за нее. Тут подрос сын, надо было устроить ему обрезание.
— А как же! — оживился Бобо-Мурад. — Детей мужского пола надлежит обрезать, ибо в шариате сказано…
— Вы даже заговорили, как мулла, — покачал головой крестьянин. — Так вот, откуда ж мне было взять денег на это обрезание? Что у меня оставалось? Ничего, кроме клочка земли. И я собрался расстаться и с этой землей, но тут вдруг вышел декрет, запрещающий и продавать и покупать землю. Конец! Больше я землей не торгую и никаких пиров по поводу обрезания не устраиваю.
— Расскажу вам одну историю, — со смехом сказал крестьянин по имени Гафур. — Однажды поэт Машраб[139] на тощем осле поехал из Намангана в Балх. Когда подъезжал к Мирзачулю,[140] он увидел необозримые стада баранов, коней, верблюдов. «Чей это скот?» — спросил поэт. «Хаджи Ахрара»,[141] — ответил пастух.
Поэт Машраб полюбовался откормленным и бесчисленным скотом и поехал дальше. В Заамине, в Джизаке, в Янги-Кургане он проезжал между полями налившейся золотой пшеницы и ячменя, таких необъятных полей он в своей жизни не видел. «Чьи же это хлеба?» — спросил поэт. «Хаджи Ахрара», — ответил тощий, оборванный крестьянин.
Поэт Машраб поехал дальше. Недалеко от Самарканда он увидел мельницы, сады, раскинутые широко вокруг, огороды, обильно политые, и, позавидовав хозяевам таких тенистых садов, таких благоустроенных огородов, спросил: «Чьи же это сады, огороды, мельницы?» «Хаджи Ахрара», — отвечали ему оборванные садовники, сожженные солнцем огородники, кашляющие, изможденные мельники.
Поэт Машраб поехал дальше. Он въехал в Самарканд, и его оглушили крики, звон, шум и говор тысячеголосого огромного базара. «Чье это все — торговые ряды, постоялые дворы, нарядные чайные, караваны, которые приходят и уходят?» «Хаджи Ахрара», — отвечали ему на базаре.
Поэт Машраб поехал дальше. Он проехал Карши, Гузар, Ширабад и возле Термеза увидел опять необъятные стада, табуны, отары, сады, огороды, мельницы. «Чье это?» — спросил он. «Хаджи Ахрара», — снова ответили ему.