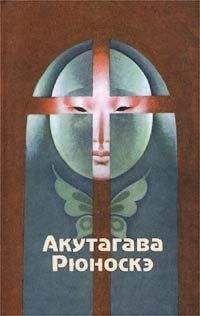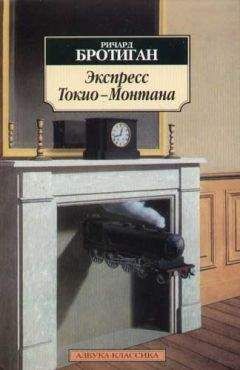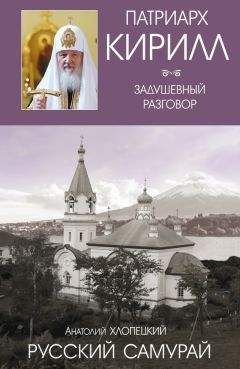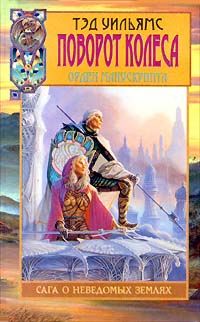Анатолий Хлопецкий - Русский самурай. Книга 2. Возвращение самурая
Не то что мне понравилась перспектива, нарисованная Яковом Перловым, но он, что называется, взял меня за горло своей безапелляционностью: я тут мучился вопросом, как мне жить дальше, а вот нашелся человек, который все решил за меня. Быстро, легко и просто. И, главное, все это обещало наконец перемены и проясняло мое будущее, по крайней мере, на ближайшие несколько лет.
Я и оглянуться не успел, как осталось позади шумное собрание, где мне задали вопрос про речь Ленина на III съезде комсомола. Недолгие сборы – и я, с новеньким комсомольским билетом в нагрудном кармане, уже очутился вместе с Яковом в тесном общем вагоне, набитом солдатами, какими-то бородатыми стариками, пропахшими махоркой, и плачущими детьми. Поезд дальнего следования Владивосток – Москва довез нас, как выразился Яков, в тесноте, да не в обиде, до станции Новосибирск.
Там, не давая мне времени опомниться, Перлов быстро провернул мое устройство на товарную станцию учетчиком грузов, помог оформить мое членство в ОСОАВИАХИМе и исчез, пообещав все время держать меня в виду. Меня мигом включили в редколлегию стенгазеты, в какую-то летучую агитбригаду, выбрали физоргом. Я поселился в рабочем общежитии, и жизнь понеслась настолько стремительная, что даже к ночи, опуская голову на жесткую слежавшуюся подушку, я не успевал о чем-либо задуматься: сон моментально смаривал меня.
А наверное, следовало бы задуматься хотя бы над тем, к лучшему ли произошли перемены в моей жизни и как отнеслись бы к моему нынешнему положению обе мои мамы – настоящая и приемная, Чанг, доктор и, наконец, отец Алексий. Я не сомневаюсь, что их спорящие голоса, зазвучав в моей душе, помогли бы мне быстрее разобраться, где истина. Но я был даже рад, что суета сует каждого дня не позволяла возникнуть воспоминаниям.
Однако я был молод, непоседлив, и понадобилась всего пара месяцев, чтобы мне приелись и накладные в конторе товарной станции, и занятия в стрелковом кружке ОСОАВИАХИМа, где руководитель – покалеченный герой Гражданской войны – не торопился допускать нас к стрельбе по мишеням, а все больше учил разбирать, чистить и собирать на скорость вслепую видавшие виды трехлинейки. Надоели и бестолковые шумные наши спевки и диспуты в железнодорожном клубе. Я устал вечно быть на людях, я мечтал о тихом уголке, где можно было бы уединиться с книгой или просто поразмышлять о чем-нибудь своем.
Смущала меня и бесшабашная, агрессивная антирелигиозность окружавшей меня молодежи. Надо сказать, что за свою не такую уж долгую жизнь я не раз сталкивался с разными людьми, для которых было безразлично то, что связывалось с верой в Бога. Не утруждали себя молитвами мои чумазые друзья-беспризорники во Владивостоке, больше надеясь на собственную ловкость и удачливость, чем на Божью помощь. Настороженно-иронически относился ко всему церковному доктор Мурашов. Яростно оспаривал исключительное Божье право на справедливый суд поручик Полетаев. Но никто из них не пытался навязывать другим собственное неверие, а доктор так же, как и Полетаев, с большим уважением относился к отцу Алексию, никогда при нем не подчеркивая своего атеизма.
Мои же нынешние товарищи по комсомольской ячейке считали необходимым всячески высмеивать «поповские выдумки», убежденно повторяли, что «религия – опиум для народа», и с удовольствием во все горло орали песню: «Мы на небо залезем, разгоним всех богов!»
Открыто начать оспаривать все это было бы так же нелепо, как пытаться в одиночку голыми руками остановить взлетающий аэроплан. Но мое уклончивое молчание во время антицерковных выходок моих товарищей в глубине души мучило меня как предательство. И в то же время я чувствовал, что совершенно не готов выступить в роли мученика, пострадавшего за веру.
Я только молился про себя за дорогих мне умерших людей и просил их и Господа простить меня. И мне оставалось надеяться, что мои молитвы услышаны.
* * *Я перечитал эти записи Николая Васильевича и подумал, что в те времена, о которых он вспоминает – в пору, когда атеизм был таким непримиримо воинствующим, – по крайней мере у молодых людей, принявших в детстве таинство крещения и проведших раннее детство в православных семьях, хотя бы в глубине души была борьба между новой идеологией, которая так агрессивно себя утверждала, и вечными духовными ценностями. И, в сущности, еще оставалась хотя бы внутренняя свобода выбора между тем, что заповедовалось дедами и прадедами, и тем, что утверждалось в бойких атеистических частушках комсомольских агитбригад двадцатых годов «Синяя блуза».
По-моему, гораздо тяжелее пришлось более поздним поколениям, когда за приверженность вере, в сущности, не преследовали никого, кроме сектантов, но вопросы о Творце всего сущего, о бессмертии души, о Божьих Заповедях вообще не вставали у большинства молодых людей. Они казались раз и навсегда подмененными теориями о происхождении видов, о высшей нервной деятельности и условных рефлексах, о моральном кодексе строителей коммунизма. Как-то само собой разумелось, что любовь к ближнему вполне заменима на братство всех народов и борьбу за мир во всем мире… Эти поколения уже во многом были лишены свободы выбора, ибо нельзя выбирать между тем, чего не знаешь, и тем, что считается общепринятым.
Потери от этой внутренней несвободы оказались тем более ощутимыми, что она многими и не воспринималась как несвобода. А с другой стороны, и те, если не духовные, то хотя бы моральные ценности, которые насаждались, тоже воспринимались поверхностно, ибо повседневная жизнь на каждом шагу предъявляла совершенно другие, совсем не высокие, бытовые примеры житейской морали и нравственности…
Сейчас мы пожинаем плоды того, что происходило, поэтому надо ли удивляться нравам нынешнего общества, духовной опустошенности многих молодых людей, беспределу совершаемых преступлений. И в то же время, по-моему, многие люди сейчас, пусть неумело, а подчас и поверхностно, но все-таки начинают задавать себе вечные вопросы, тянуться к вере своих дедов и прадедов, задумываться над тем, какая же могучая сила спасала Россию во времена самых тяжких испытаний.
Но вернемся к повествованию Николая Васильевича.
* * *Так дожил я до весны 1928 года. Перлов, вопреки своим обещаниям, не давал о себе знать, и я уже начал было подумывать, не сбежать ли в Харбин к Чангу, или, по крайней мере, не вернуться ли во Владивосток, где я оставил Василия Сергеевича и где все-таки все мне было знакомым с детства.
Может быть, я так и поступил бы, если бы однажды воскресным днем, болтаясь по городу, не увидал на заборе афишу, приглашавшую в спортивное общество «Динамо» всех желающих заниматься восточным единоборством дзюу-до. Афиша подчеркивала, что занятия будет вести мастер высокого класса, выпускник знаменитого японского института Кодокан В. С. Ощепков.
Я чуть не запрыгал от радости тут же возле афиши: Василий Сергеевич – вот кто был мне сейчас позарез нужен. И как здорово, что он тоже оказался здесь, в Новосибирске!
Я внимательно несколько раз прочитал написанный на афише мелким шрифтом адрес спортзала «Динамо» и рванул пешком, не теряя времени на расспросы об идущих туда трамваях.
Мне почему-то казалось, что я непременно застану Василия Сергеевича в спортзале, но его там не было.
– Занятий не будет до вторника, – сурово сказал мне усатый дядька в синей милицейской форме, – у Василия Сергеевича жена умерла. Три дня ему положено на похороны. Так что бывай пока, а во вторник не опаздывай: он этого не любит.
* * *Я поплелся прочь, совершенно ошарашенный свалившейся на меня новостью, и даже забыл спросить, в какое время начинаются занятия.
Так сложилось, что я не был знаком с женой Василия Сергеевича, и неизвестно, хотел ли бы он видеть меня на ее похоронах. К тому же я не знал, где жили Ощепковы в Новосибирске, когда и во сколько будет гражданская панихида, или это будет отпевание. Словом, у меня было достаточно доводов, чтобы оправдаться перед собой, и все-таки я чувствовал себя виноватым. И, наверное, поэтому во вторник решил не ходить в спортзал «Динамо», а дать всему происшедшему немного улечься. Хотя мне ли было не знать, сколько потребуется времени, чтобы горе в самом деле хоть немного улеглось.
Я тянул сколько было возможно, но знать, что Василий Сергеевич здесь, в этом городе, и не встретиться с ним – становилось все труднее. И, какой сложной ни представлялась мне эта встреча, однажды я собрался с духом и явился-таки в динамовский спортзал.
И снова, как это было во Владивостоке, я сразу заметил в зале Василия Сергеевича: крупный, бритоголовый, он двигался среди борцов с какой-то неожиданной мягкой грацией, чем-то напоминая сильную мускулистую пантеру.
Он заметил меня, махнул рукой, приглашая подождать, и вскоре подошел.
– На ловца и зверь бежит, – сказал он без тени улыбки, и меня поразила жесткая линия его плотно сжатых губ. Он чуть приподнял руку, пресекая тот неуверенный лепет, которым я попытался выразить ему свое сочувствие, и я понял, что для наших дальнейших разговоров эта тема является прочно закрытой.