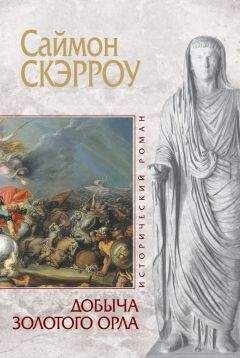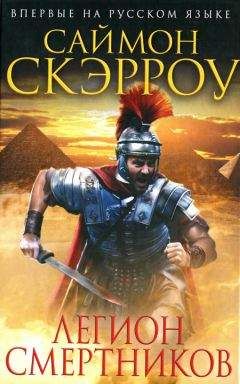Ирина Головкина (Римская-Корсакова) - Лебединая песнь
– Что с вами? – очень мягко спросила она, подходя. – Не болит ли у вас голова?
– Нет, нет, благодарю! – ответил он, вскакивая.
– Вы очень бледны. Я с самого начала заметила. Что-нибудь случилось?
– Ничего, уверяю вас, устал немного.
Но она пристально и тревожно всматривалась в него:
– Пожалуйста, садитесь и скажите… скажите мне правду! -и видя, что он колеблется, прибавила: – Вас не вызывали ли в гепеу?
– Елизавета Георгиевна, – сказал он тогда, – вы не только умны, вы очень проницательны. Да, я как раз оттуда, но вы не беспокойтесь, я не привел за собой никакого шпика. Я специально проверил. Есть один безошибочный способ…
Но она перебила его:
– Ах, это неважно! Я вовсе не так пуглива. Говорите, зачем вас вызывали. Мне можно сказать все, уверяю вас.
Он начал рассказывать, очень коротко, как всегда, когда говорил о себе: это хоть и согласовалось с требованиями хорошего тона, всякий раз не удовлетворяло Елочку, она предпочла бы, чтобы он был в этом случае менее воспитан. После нескольких слов он остановился – тоска и отвращение мешали ему говорить.
– Это возмутительно! Нигде ни при какой власти так не было! – воскликнул он. – Для них не существует разницы между политическими и уголовниками. Они третировали меня, как вора или убийцу. Вы не представляете себе этого обращения! Щелкнут револьвером у самого лица: «Молчи! Раздевайся! А ну, раздевайся!., молчи!» Что-то неслыханное!
– Ах, вот что! Раздеваться заставляли, – сказала она.
– Да, осматривали следы ранения, очевидно, в виде особых примет. Даже врача вызывали. В этом пункте мне кое-что неясно: я ожидал, что тут-то меня и уличат – а вот отпустили. По-видимому, сведения из госпиталя, перепутаны.
Елочка молчала. «Невеликодушно будет рассказывать, что это я спутала следы. Я бы точно напрашивалась на благодарность! – думала она. – Я хотела его предупредить, но предупреждение мое запоздало».
– Подлецы! – продолжал взволнованно Олег и стал ходить по комнате. – Они осмелились мне предложить стать их агентом и бегать к ним с доносами… пытались застращать! Они не понимают, что такое чувство чести, которое с детства заложено в нас. Я еще не арестован, а они уже приставляют револьвер к виску. Безнаказанно убить, задушить – им все нипочем! Ответ один: в интересах рабочего класса! Они еще во время гражданской войны показали свою жестокость! В Ростове они подожгли госпиталь с ранеными и оставили их погибать в огне. В Харькове пленным офицерам вырезали глаза и уши, прежде чем расстрелять. В Киеве… Киев они затопили кровью. Когда мы его отбили, все городские сады оказались полны казненными, на площадях красовались десятки виселиц… В Липках, где в одном из особняков обосновалась чрезвычайка, были обнаружены горы трупов и все стены забрызганы мозгами и кровью. Это рассказывает вам очевидец! Тела свозили потом день и ночь в анатомический театр для массовых захоронений, сколько было девушек, дам! По всему городу шли непрестанные панихиды… А в Петербурге после взятия Зимнего? А в Ярославле? В Крыму цвет русской интеллигенции расстреливали по приговору чека китайцы, и Европа допустила это! Ну а теперь? Ведь теперь нет военных действий; нет сопротивления, никакой остроты момента, и, однако же, эта недопустимая, неслыханная, небывалая жестокость продолжается. В ней есть что-то не русское, не наше. Русские жестокостью никогда не отличались. Наша толпа может рассвирепеть, и тогда она страшна, как и всякая толпа, но жестокость толпы – нечто стихийное, проходящее, а ведь здесь жестокость преднамеренная, входящая в систему. Эти сети лагерей, эти пытки в подпольях, где оборудована вся аппаратура вплоть до глушителей… Во всем этом что-то несвойственное нам, что-то чужое!
– Чье же? – спросила, трепеща, Елочка.
– Не знаю. В цека очень большое количество евреев, вообще в партии. Сейчас они, несомненно, в чести, очевидно, как угнетаемое нацменьшинство. Директора крупных учреждений, политруки, лекторы по марксизму – евреи в огромном большинстве… Но они не жестоки! Я их терпеть не могу – они способны высосать из человека все соки, как пиявки, но они не жестоки, даже отзывчивы, когда можно, когда неопасно. Нет, эта жестокость скорее азиатская, а все в целом – гнусный сплав нашего отечественного хамства, еврейского самого злостного вампиризма и азиатской свирепости. России больше нет! Даже имя ее не произносится! Недавно на службе я сказал нечаянно: «У нас в России», и мой начальник-еврей меня поправил: «У нас в Союзе». России больше нет! А с моим поколением безвозвратно погибнет и белогвардейская идея о ее возрождении, – идея, ради которой полегло столько жертв!… «О, Русь, забудь былую славу!»
Елочка следила, как он взволнованно мерил шагами комнату, словно тигр, запертый в клетку.
– А вы не думаете, что за всем этим стоят оккультные силы, что этот сплав – продукт темноты! – дрожащим шепотом решилась она высказать заветную мысль.
– Бесы? Не знаю… Может быть, – ответил он.
Елочке показалось, что он недостаточно оценил эту мысль, но усталый звук его голоса коснулся ее сердца. Она встала выключить электрический чайник, который уже в течение нескольких минут шипел и плевался, и сказала опять с тою же мягкостью, которая звучала в ее голосе только в обращении к Олегу:
– Вы прямо «оттуда» и устали. Вам надо поддержать силы. Я вам налью стакан крепкого чаю… Пожалуйста, не отказывайтесь, -и стала накрывать на стол.
Через несколько минут Олег сказал, мешая ложкой чай:
– Теперь я в приятном ожидании: следователь сказал, что пришлет на днях новое приглашение. Жить, предвкушая новый допрос… Благодарю покорно! Впрочем, я туда больше не пойду!
– Как не пойдете? Если получите повестку, придется идти. Иначе ответите за уклонение. Олег Андреевич, не теряйте благоразумия.
Он молчал, как будто что-то обдумывая.
– Ну, да об этом рано говорить, поскольку приглашения еще нет, – сказал он через несколько минут.
Она коснулась его руки:
– Да вы о чем думаете? Вы должны беречь себя, для России беречь. Быть может, придет минута, когда будут нужны как раз такие люди – с военным опытом, с именем, с несокрушимой энергией и преданности делу!
Он взглянул на нее загоревшимся взглядом.
– О, если б такая минута пришла! Россия, Родина! Если б я знал, что доживу до ее освобождения, что еще могу быть полезен! Кажется, только в этой мысли я могу почерпнуть желание жить. Бог свидетель – я совсем не думаю о своих выгодах, о том, чтобы вернуть потерянное состояние или привилегии, или титул. Пожалуй, я даже не хотел бы реставрировать монархический строй. Я был связан с ним семейными традициями и привязанностями, но этих людей уже нет, а действительность показала, что эта форма правления уже отжила. Я думаю теперь только о России. Нужен строй, при котором наш великий народ действительно получил бы возможность выправиться и расцвести и развить свои лучшие свойства. Погибнуть в боях, которые сметут с лица земли это подлое цека – на три четверти нерусское, – вот все, чего я хочу для себя, в этом все мое честолюбие! Вы знаете, там, в лагерях, мне мерещилось иногда всенародное ополчение, подобное Куликовской битве или Смутному времени, – могучая, светлая устремленность всего народа, решающая великая битва, хоругви, знамена, звуки «Спаси, Господи, люди твоя» и колокольный звон! Но прежде чем это осуществится, я, наверное, погибну на дне их подвалов. Все глухо, все оцепенело – ничего, что могло бы предвещать желанный бой!
Елочка слушала как зачарованная, не смея пошевелиться, каждая жилка в ней дрожала. О да! Он способен на подвиг! В нем еще не сломлен дух его великих предков. Он такой, каким она хотела его видеть: «мой Пожарский!»
Кто-то постучал в дверь. Елочка с досадой пошла отворять и едва не ахнула: перед ней стояла Анастасия Алексеевна, а за ней, подталкивая друг друга локтями, три кумушки.
В одну минуту Елочка учла всю сложность положения: она отлично поняла, до какой степени она себя скомпрометирует, если не разрешит войти Анастасии Алексеевне, но поняла и то, что нельзя допустить ни в каком случае, чтобы она увидела и узнала Олега. Она пошла ва-банк – встала перед дверьми, заслонила их собой и сказала:
– Анастасия Алексеевна, милая, извините меня, я не могу вас принять сейчас.
Но когда, проводив обратно в кухню, сконфуженную и извинявшуюся гостью, она закрыла входную дверь и повернулась, то оказалась лицом к лицу со всем женским составом квартиры: все, хихикая, оглядывали ее – туалет Елочки был в загадочном порядке, вплоть до белого воротничка и черного бантика у горла, однако в комнату она не пустила… «Из постели выскочила…» – долетели до ее ушей шепотом сказанные слова.
Она быстро обернулась и смерила взглядом говорившую. «О, женщины – ничтожество вам имя» – вспомнилось ей. «Молодой мужчина пришел к одинокой женщине… Для них это то же, что оставить вдвоем кота и кошку. Им даже присниться не могут отношения более тонкие. Дальше комариного носа они не видят. Да я такого разговора, какой был сейчас у нас, ни на какие объятия и поцелуи не променяю».