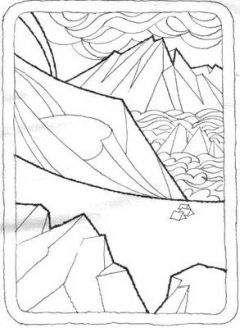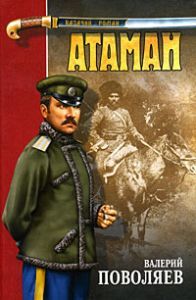Бурсак в седле - Поволяев Валерий Дмитриевич
— Плохой получится из тебя миссионер, Ванька, — сказал как-то Калмыкову наставник с кучерявой ассирийской бородой, вздохнул досадливо и запустил пальцы в волосы, — да и закончишь ты семинарию или нет, никто не знает… Вот олух царя небесного! — и в голосе наставника прозвучали жалостливые нотки, он покачал головой. — Ох, олух!
А Ваньке совсем не хотелось быть миссионером, не хотелось путешествовать где-нибудь среди чукчей или эвенков — съедят ведь! И косточки, прежде чем бросить их собакам, обглодают. Неувлекательное это дело! А вот быть военным — совсем другой коленкор. Военных Ванька любил, форму их, особенно офицерскую, боготворил. И если бы не нищета, в которой он прозябал вместе со стариком-отцом, вряд ли бы он пошел в миссионерскую семинарию. В семинарии одно было хорошо — за учебу не нужно было платить.
— Эх, Ванька! — вздыхал отец. — Как же мне тебя выучить, на какие шиши? — В уголках глаз старого человека появлялись мелкие горькие слезы.
Ванька, задетый слезами отца, смущенно приподнимал одно плечо — этого он не знал.
Позже, двадцать лет спустя, он написал, что «неуклонно преодолевая всякие препятствия, создаваемые нуждой и бедственным положением моего отца-старика», — стремился к поступлению в военное училище. Желательно — в казачье, юнкерское.
Как-то один из преподавателей удрученно прижал к вискам пальцы и покачал головой:
— И откуда ты только взялся такой, Калмыков?
Калмыков готовно ответил:
— Из казачьей среды! — Но казаком он не был, лихих ребят в штанах с лампасами видел только издали, поэтому часто пускался в лживые воспоминания, из которых следовало, что родился он едва ли не во время бесшабашного казачьего набега на турецкую землю.
Преподаватель не поверил, что Ванька Калмыков принадлежит к казачьему сословию:
— Среди казаков таких дураков нет, — сказал он.
Ванька в ответ лишь хмыкнул:
— Как знать!
Преподаватель тоже хмыкнул — он остался при своей точке зрения. Единственное, что отличало Калмыкова от его сверстников, это то, что он не боялся змей. Все шарахались от змей в разные стороны, только пятки сверкали, вопили оглашено; один бурсак от страха, что змея вцепится в него своими страшными зубами и откусит кусок задницы, даже обмочился в штаны, а Ванька хоть бы хны — при виде змеи даже не морщился. Змей он обманывал легко, или если гадюка, допустим, совершала боевой бросок, стремясь впиться в Ваньку зубами, тот мигом подставлял ей под укус старый ватный рукав.
Гадюка впивалась в него опасными клычищами и… оставляла их в рукаве — ядовитые зубы выламывались у нее с легкостью необыкновенной, вылетали, будто старые кнопки из шелушащейся, начавшей осыпаться стены. У гадюки оставались еще два кусачих ядовитых зуба, надо было выломать и их, а дальше со змеей можно делать что угодно, — она мало чем будет теперь отличаться от обычной тряпки, которой вытирают мебель.
Иногда Ванька Калмыков приносил ядовитые зубы в семинарию — крика тогда стояло столько, что со здания могла сползти крыша — в районе Кавказских Минеральных Вод специальные приборы регистрировали мелкие колебания почвы, выспренно именуемые землетрясениями.
В таких случаях за Ванькой с линейками гонялись не только преподаватели, но и воспитанники.
— Ирод! — кричали они дружно; воспитатели добавляли запыхавшимися бабьими голосами: — Из семинарии выгоним! — но из учебного заведения Ваньку не выгоняли. Были у них на этот счет какие-то свои соображения.
Как-то Калмыков увидел на базаре в Пятигорске кобру — та плясала, извивалась, становясь на хвост под нежные звуки дудочки. Изящный танец змеи поразил его — слишком красива была кобра с мощным телом и плоской, украшенной колдовским орнаментом шеей. А если попробовать и выдрессировать на манер кобры местную змею, кавказскую гадюку?
Мысль была заманчивая. Ванька думал недолго — почесал пальцами затылок и отправился в болотистое место, где водились крупные змеи — гадюки с редким пестрым рисунком. Такую красочно расписанную змею какой-нибудь мужичок-недотепа запросто примет за королевскую кобру: важно только запудрить ему мозги и мужичок тут же в доверчивом изумлении распахнет кошелек.
Болотистое змеиное место не часто встретишь среди здешних гор, вставших на землю подобно вулканическим прыщам, готовых в любое время взорваться, — оно заросло кугой — неведомым плешивым кустарником, облепленным прозрачными длиннокрылыми мухами, схожими с поденкой. Змей тут было много, как нигде на Кавказе… Ванька облюбовал здоровенную пеструю гадюку и приготовил ватный рукав. На всякий случай взял в руку палку, чтобы, если промахнется, можно было отогнать вражину, качнулся на тощих жилистых ногах влево-вправо и подступил к змее.
— Ну, давай, мадам, давай, — подбодрил он гадюку, — не стесняйся.
Змея не хотела нападать — мудрая была, уже в возрасте — чего ей нападать на двуногого «венца природа»: чай, не сумасшедшая! Но человек не отходил от нее, дразнил, и тогда змея сделала ложное движение, пугнула человека: кыш!
Ванька поспешно отскочил от змеи, сплющил ногами мягкую, раскисшую, как творог, кочку, подступил к гадюке с другой стороны. Змея зашипела, показала кривоватые белые клыки, стрельнула в человека гибким угольно-аспидным язычком — Ваньке только это и надо было: он сунул ей под нос жесткий, сплошь в дырках, будто измочаленный дробью рукав. Змея, разом шалея, впилась в него губами, Ванька резко дернул рукав к себе.
В ткани остались два острых зуба, украшенных прозрачными медовыми капельками. Это был яд. Калмыков скосил глаза на выдранные зубы и удовлетворенно хмыкнул:
— Хар-рашо!
Осталось выдрать еще два ядовитых клыка — всего их у гадюки четыре, выскакивают из челюсти легко, успевай только руками управлять. Главное — не промахнуться и не подставить гадюке под укус руки.
Через несколько минут гадюка лишилась и второй пары ядовитых зубов. Ванька подхватил змею и, как обычную тряпку, сунул в мешок. Гадюка заскреблась изнутри о ткань своим чешуйчатым телом, задергалась, будто злобная рыба, попробовала укусить ловца, но не тут-то было — ловец был более ловким и увертливым, чем она сама.
Змея, обозлившись, задергалась сильнее, свилась в несколько колец, захлопала хвостом о грубую ткань мешка. Семинарист тоже вышел из себя, матюкнулся и приложил мешок с гадюкой о трухлявую, рассыпавшуюся кочку. Змея крякнула по-лягушачьи и тут же затихла. Кочка, вместо того чтобы рассыпаться, взлетела вверх, подобно вороне, и с жирным звуком шлепнулась на землю. В разные стороны брызнул черный влажный сор.
— Тих-ха! — запоздало выкрикнул семинарист, давая понять змее, что шутить с ней он не собирается.
Гадюку Ванька Калмыков посадил в ящик, ящик спрятал в укромном месте, накрыл его тряпкой, сверху навалил сушняка, замаскировал.
Через пару дней у племенной гадюки вновь вылезли ядовитые зубы. Ванька, естественно, знал, что зубы у змеи прорежутся снова, и поэтому опять приготовил ватный рукав, проверил его — не белеют ли где ядовитые гвозди?
Когда он пришел к гадюке и немного приоткрыл ящик — сделал это слишком беспечно, полагая, что воля змеи за два дня плена сделалась вялой, как ботиночный шнурок, затихшая гадюка совершила резкий прыжок, целясь Ваньке в лицо. Испуганный семинарист стремительно отпрянул от нее, до лица достал только черный язычок, зубы не достали, — и поспешно хлобыстнул по змее крышкой ящика. Змея знакомо крякнула и нырнула вниз, в глубину ящика, Ванька вновь сунул ей ватный рукав. Змея щелкнула злобно, по-собачьи, всадила в вату зубы, задергалась всем телом, Ванька рыбацким рывком подсек ее, и в рукаве остались очередные два зуба. Пробормотал дрожащим голосом — испуг еще не прошел:
— Так-то вернее!
Времени Ванька Калмыков решил не терять — начать дрессировку сегодня же.
Весна продолжала свое неторопливое шествие по земле. Тихая, с мелкой водяной сыпью, валившейся с небес — ни солнце, ни ветер никак не могли справиться с противным, вызывавшим в ключицах и в затылке чес дождиком, с голыми тощими кустами, рождавшими в душе печаль, и цветеньем диких слив. Домашние сливы еще не зацвели, они украсятся белой пеной позже, вместе с персиками и урюком, а дикие цвели — розовые, щемяще белые, горькие. Белым цветом были облиты сливы обычные, вроде бы уже набившие оскомину, но хозяйкам все же не надоевшие; они всегда с удовольствием пускали их на варенье; розовым — сливы красные, дикие, нисколько не уступавшие культурным сортам. Отцветут дикие сливы, холодная морось отступит, и тогда начнется цветение настоящее, обильное — будет цвести все, что способно цвести: от дикой смородины и боярышника до черешни и яблок-ранеток, росших по склонам гор.