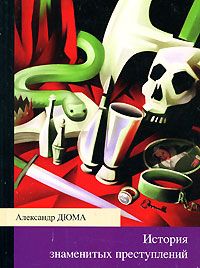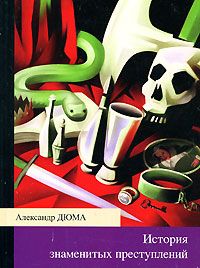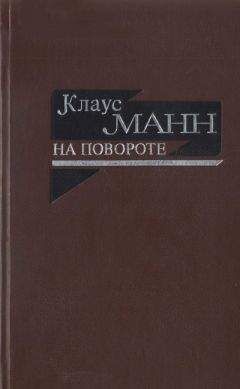Клаус Манн - Петр Ильич Чайковский. Патетическая симфония
— Ты меня принимаешь как великого князя! Как у вас чудесно! Если бы не ваше гостеприимство, я бы сегодня вечером здесь наверняка скончался. Ты уже спас мой скрипичный концерт, а теперь ты спасаешь мне жизнь, и я не знаю, какая из этих заслуг более похвальна. Я в вечном долгу перед нашим стариной Бродским, — обратился он к музыкальному критику Краузе, который очень внимательно следил за беседой, теребя свою остренькую бородку. — Наш замечательный Бродской взялся опекать мой скрипичный концерт, когда никто о нем и слышать не хотел. Я посвятил его своему другу Ауэру, и мой друг Ауэр утверждал, что польщен и восторжен. Восторг его был выражен в нежелании исполнять мое произведение: по мнению друга Ауэра, его невозможно играть, оно слишком сложное. Вы можете себе представить, как подобная критика из уст крупной величины сказалась на популярности моего бедного концерта. Он залеживался на полках, никто не решался за него взяться, пока не появился наш отважный Бродский. Он приложил все усилия и вывез мой бедный старый концерт — да, к этому времени он уже успел состариться — в Вену. И какая ему от этого польза? Самый влиятельный критик на Дунае господин Ханслик писал, — Петр Ильич мрачно откинулся в кресле, дословно цитируя рецензию Ханслика, с наслаждением выговаривая каждое слово: — «Мы знаем, что в современной литературе все чаще стали появляться произведения, авторы которых склонны к описанию всякого рода отвратительных физиологических явлений, в том числе мерзких запахов». — Петр Ильич говорил очень серьезно, для убедительности подняв указательный палец. — «Такую литературу можно назвать вонючей. Концерт господина Чайковского наглядно продемонстрировал, что вонючей бывает и музыка».
— Неслыханно, неслыханно! — воскликнул господин Краузе, у которого от возмущения соскользнуло с носа пенсне, подвязанное черной лентой.
Артур Фридхайм тоже был крайне возмущен.
— Этой рецензией господин Ханслик вынес самому себе приговор! — резко проговорил он и сердито пожал плечами.
А Бродский с упреком воскликнул:
— Ты наизусть выучил эту ерунду! Она тебя так задела?
— Да мне за тебя обидно, старина Бродский! — произнес Петр Ильич мягким, почти нежным голосом. — Что касается меня, то я к такому привык. Я в России много чего подобного о себе читал. А ты столько усилий приложил…
— Ну, — сказал Бродский, — теперь твой скрипичный концерт завоевал признание во всей Европе, и я далеко не единственный его исполнитель.
— Но ты был самым первым, — Чайковский благодарно ему улыбнулся.
— Это прекрасный концерт, — сказал Зилоти, воспользовавшись короткой паузой. Чайковский на мгновение взглянул на него, потом отвел взгляд и, смеясь, снова обратился к критику Краузе:
— Мне любопытно узнать, считают ли лейпцигские господа критики мою оркестровую сюиту такой же «вонючей»?
Это привело Мартина Краузе в состояние крайнего возбуждения.
— Позвольте, маэстро! — воскликнул он возмущенно. — Вы нас обижаете! У нас вы можете рассчитывать на более глубокое понимание искусства, чем у наших венских коллег. И вообще, — продолжал он ревностно. — уже одно то, что вы гастролируете в концертном зале «Гевандхаус», гарантирует вам всеобщее уважение.
— Я знаю, это большая честь, — вежливо сказал Петр Ильич, — и я несомненно продемонстрирую, что ее недостоин — я все провалю…
— Насколько это большая честь — вопрос спорный. — В голосе господина Краузе прозвучала определенная строгость. — По крайней мере, это большая редкость. «Гевандхаус», как правило, очень консервативен и предпочитает классическую программу: Гайдн, Моцарт, Бетховен, Шуман, Мендельсон. Им иногда хватает смелости на Вагнера, Берлиоза и Листа — и это уже скромная дань современной музыке, которая вообще-то относится к кругу полномочий общества Листа, о котором с уверенностью можно сказать, что программа у него всегда интересная. А тут вы — в концертном зале «Гевандхаус»! Это сенсация! Вас здесь считают представителем ультрарадикального направления.
— Да, Петр, — подтвердил Бродский, — здесь тебя почитают как одного из самых смелых.
В ответ на это Чайковский от души рассмеялся.
— Вот бы довести это до сведения некоторых господ в Петербурге! — Ухмыляясь, он потирал руки. — Некоторых господ, которые причисляют меня к давно уже вымершему поколению, которые хотят сделать из меня архиконсервативного деда.
— Один шаблон не лучше другого, — заметил Фридхайм. — На самом деле вам принадлежит золотая середина между двумя крайностями, Петр Ильич.
Чайковский встал.
— Как же так? — спросил он, расхаживая по комнате. — Мы все время говорим только обо мне и о моих ничтожных делах. Мне неловко не только перед всеми присутствующими, но и перед ними, перед великими мастерами. — Он остановился перед камином, уставленным портретами великих композиторов. Здесь в ряд выстроились Глинка и Вагнер, Шуман и Берлиоз, Лист и Брамс. — Какой у Листа красивый профиль, — произнес Петр Ильич. — Орел в сутане…
Неожиданно все заговорили о Листе. Фридхайм и Зилоти оба были его учениками.
— Никто никогда лучше него не владел этим инструментом, — сказал Фридхайм и постучал своими худыми, тренированными пальцами по черной блестящей крышке рояля. — Даже Рубинштейн, — произнес он вызывающе.
— Даже Рубинштейн, — подтвердил металлический голос молодого Зилоти.
— Хотя для него и рояль, и вообще музыка были всего лишь средством обольщения, — задумчиво проговорил Фридхайм.
— Лист, или «Школа беглости» — в отношениях с женщинами, — захихикал Мартин Краузе. — Это слова немецкого поэта и философа.
— Удивительно, — сказал Чайковский, — со дня его смерти прошло всего чуть больше года, а он уже стал легендой. Он еще при жизни приложил все усилия к тому, чтобы стать легендой. Великий обольститель в аббатских одеждах, виртуоз в фортепианной музыке и в любви… Я ни разу не был у него, — продолжал он уже помедленнее. — Он же был крайне занят и предпочитал окружать себя только своими поклонниками. Моими произведениями он, как мне рассказывали, интересовался мало…
Они продолжали говорить о Листе, о его знаменитых любовных похождениях, его путешествиях, о его жизни в роскоши и достатке между Римом, Парижем, Веймаром и Будапештом; о характерном для него вызывающем сочетании светского азарта и набожности; о его неустанной, требовательной, первооткрывательской, стимулирующей педагогической деятельности.
— Да, он был великим аранжировщиком, — сказал в заключение Петр Ильич, — и великим чародеем. Он был одного масштаба с Паганини. Интересно, передал ли он кому-нибудь свои тайны? А вот и Брамс, — произнес он, склоняясь над следующим портретом.
— Да, это Иоганнес Брамс, — торжественно повторил Бродский.
Возникла небольшая пауза. Чайковский остановился у камина спиной к присутствующим.
— Ты тоже его поклонник? — спросил он наконец, обращаясь к Бродскому.
— Мы все его поклонники, — ответил Бродский все тем же торжественным тоном.
Петр Ильич прикусил губу.
— Я знаю, я знаю, — говорил он. — Здесь вокруг него создали нечто вроде религиозного культа, вблизи которого чувствуешь себя неловко, если сам в нем не участвуешь.
— А что вы имеете против нашего маэстро Брамса? — деловито приблизился к нему Мартин Краузе, как будто намереваясь достать записную книжку, чтобы конспектировать слова русского гостя.
— Что я против него имею? — переспросил Петр Ильич, беспокойно переступая с ноги на ногу. — Он для меня совершенно непостижим, должен вам признаться. Да, я ценю его качества, разумеется, я считаю его серьезным, содержательным и даже выдающимся. Он солидный и изысканный, никогда не злоупотребляет грубыми внешними эффектами, как некоторые его современники, например ваш покорный слуга. Но вот полюбить его я не способен, как бы я ни старался. Мне очень неловко так говорить о самом почитаемом композиторе вашей страны, — добавил он с небольшим поклоном в адрес критика Краузе.
— Ах, очень вас прошу, продолжайте! — возбужденно просил его сотрудник газеты «Лейпцигер тагеблатт». — Это чрезвычайно интересно.
— Ну, если вы настаиваете, — сказал Чайковский. — Мне в музыке вашего великого мастера слышится нечто сухое, холодное, туманное и отталкивающее. Во всем, что он творит, чувствуется пристрастие к неимоверному, которое мне отвратительно — простите за грубое выражение. Его музыка не согревает сердца, наоборот, от нее веет холодом, да, меня от нее просто бросает в озноб. Я мерзну, понимаете? Мне чего-то не хватает — мне не хватает красоты, мелодичности. Он никогда не доводит музыкальную тему до конца. Только начинает вырисовываться музыкальная фраза, как на ней сразу разрастаются всякие модуляции, вычурные и таинственные. Как будто композитор поставил себе целью казаться непостижимым и глубокомысленным, причем любой ценой, даже рискуя наскучить. Я часто задавал себе вопрос: действительно ли этот немецкий композитор так глубок? Глубок в каждом фрагменте и в каждой фразе? Или же он просто кокетничает, прикрывая глубиной бедность и сухость своего воображения? На этот вопрос, естественно, ответить невозможно. Подлинны ли глубина и величие его произведений или притворны — это не важно; в любом случае они оставляют меня равнодушным, души моей затронуть им не дано.