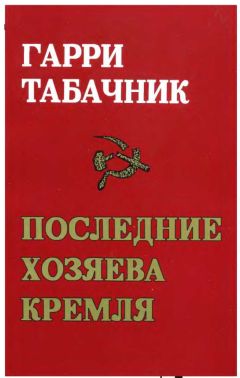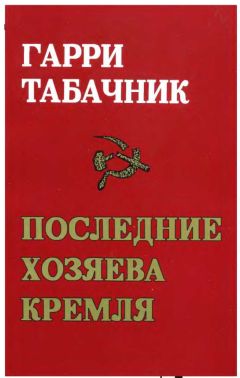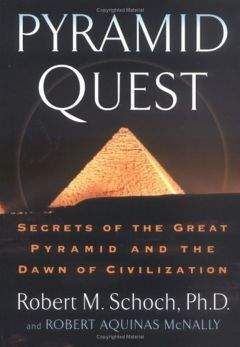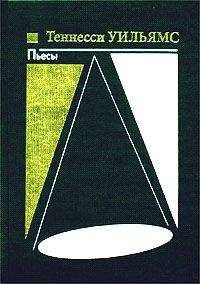Альфред Нойман - Дьявол
— Пойдем! — сказал он.
Она колебалась.
— Пойдем, — повторил он настойчиво, с лихорадочным взглядом. — Право, это стоит посмотреть.
Он коротко засмеялся и вышел во двор. В его словах и смехе была какая-то подзадоривающая осведомленность, было что-то противное, что возбуждало ее любопытство и делало ее послушной. Она последовала за ним и нагнала его у дверей. Молча шагали она полем по освещенной луной дороге к роще. Тут Оливер остановился и шепотом сказал ей, чтобы она сняла свои стучащие сабо. Босиком прокрались они к хижине дровосека, откуда мерцал свет. Здесь жена увидела Клаэса, лежавшего около Гретье Хоувель, пятнадцатилетней служанки из Уденаарда. Элиза сделала движение, как бы желая броситься в хижину или закричать, но Оливер, стоявший сзади нее, обхватил ее, зажав правой рукой рот, а левой сдавил грудь; прижавшись лицом к ее спине, он взволнованно прошептал:
— Генрих!
С минуту, как оглушенная, подчинялась она этим объятиям. Потом, сильно оттолкнув мальчика, поспешно удалилась. Хотел ли того случай, чтобы она в поле на уединенной дороге встретила Генриха, или же это он подкарауливал ее за стогом сена? Его сильные руки подняли ее. Она не кричала и не сопротивлялась. Он понес ее в поле, задыхаясь и бормоча бессвязные слова, и осторожно опустил ее на землю.
Оливер, неподвижный, как столб, облитый лунным сиянием, стоял в воротах, загораживая вход, и ждал. Сперва явилась Элиза; она бежала, как бы преследуемая кем-то, и отпрянула при виде его. Тяжело дыша, уставилась она на мальчика широко раскрытыми глазами, смущенно и поспешно зашпиливая в узел распустившиеся волосы. Оливер молчал, лицо его было неподвижно. Его глаза в белом свете месяца казались так глубоко запавшими в своих орбитах, что женщине почудилось, будто ночь, просверлив ему голову в двух местах, проглядывала через них в бесконечный мрак. Женщина застонала и спросила совершенно изменившимся, чужим голосом:
— Ты ослеп, Оливер?
Мальчик не отвечал, но ей показалось, что он усмехнулся. Она закрыла глаза рукой, прижалась к воротам, чтобы его не задеть, и так прокралась мимо него мелкими, смиренными шажками. Он не обернулся в ее сторону.
Потом пришел Генрих с опущенными руками и согнутой спиной. У ворот он поднял голову и не особенно испугался.
— Ах, это ты, Оливер, — сказал он грустно.
Однако ему, когда он пригляделся к мальчику, стало не по себе, и он залепетал смущенно:
— Я ее… не нашел… не нашел… Оливер, пожалуйста.
Наклонившись, он уставился прямо в глаза мальчику и вдруг ударил его по лицу. Оливер стукнулся о ворота, Генрих прошел во двор. Мальчик без единого звука боли или ярости покачал головой и опять встал на свое место.
Он ждал минут двадцать; тишина ночи шумела в его ушах. По временам лаяли собаки, из деревни доносились крики пьяных. Оливер стиснул зубы; ему вдруг захотелось плакать. Однако он не плакал. Пришла Гретье, напевая песенку. Она вскрикнула:
— Господи Иисусе! Матерь божия! — и, проходя мимо, тихо, убежденно добавила: — Дьявол!
Пришел и Клаэс, несколько склонившись вперед и шагая своими большими шагами.
— Что ты тут делаешь, Оливер?
Мальчик посмотрел на него долгим взглядом и заговорил тихо, почти без всякого выражения:
— Плетка еще в крови, а Гретье уже тут.
Клаэс, приоткрыв немного рот, посмотрел мимо говорившего и прислонился к стене, как будто вдруг почувствовал себя очень усталым. После длинной паузы он сказал с бессмысленным видом: — Да, — поднял мальчика, поцеловал его в лоб и, закрыв ворота, понес в дом.
С этих пор Оливер, как тиран, воцарился над их нечистой совестью. Он никогда не грозил и не вымогал, но он удручал и мучил людей своим взглядом, своим серьезным видом, своим смехом, наконец просто своим присутствием, ибо знал об их скрытых отношениях. Он больше не приближался к мачехе, и она тоже с этого дня молчаливо и как бы случайно отказалась от своей власти над ним и своего права воспитательницы и относилась к нему, как к взрослому. Генрих постоянно старался разнообразными ласками загладить свой удар по лицу, но Оливер не давал себя ни подкупить, ни растрогать. Так же и по отношению к отцу, который в ту пору хотел с ним сблизиться. Оливер оставался холодным, отсутствующим и непроницаемым. Он не давал вырвать у себя тайной власти. Он знал, что две необузданные натуры, Элиза и Генрих, снова и снова сходились, и что старческая привязанность Клаэса к молодой девушке все увеличивалась.
И эти трое тоже знали, что мальчику известен каждый их шаг и что от него зависит, предоставлять ли им удобные случаи, или, напротив, создать препятствия; в такие моменты он еще больше мучил их своим присутствием.
Но настала, наконец, ночь, когда терпение Генриха истощилось. Он наполнил довольно объемистый мешок стеклом, истертым в мелкий порошок и, крадучись, босой, внес его в каморку Оливера. Но мальчик не спал. Он спросил в темноте: — Кто там? Брат стоял молча. Тогда Оливер, как бы видя во мраке ночи, воскликнул:
— Ах, Генрих!
У Генриха выступил на лбу холодный пот. Он подождал минуту-другую, и, так как Оливер оставался неподвижным, он прыгнул к кровати, взмахнул мешком и высыпал его содержимое.
— Ах, Генрих, — сказал за его спиной Оливер, уже прокравшийся тем временем к двери, — разве ты не знаешь, что я тоже сын твоей матери?
Он закрыл дверь на запор снаружи и промолвил сквозь ее створки:
— Этот песок должен был разодрать мне легкие, брат Генрих: я уже слышал об этом. Таким способом один человек в Брюгге извел много народу. Но почему же ты хочешь лишить меня жизни, Генрих?
Брат не двигался, до крови кусая себе пальцы. Через минуту он снова услышал мягкий, низкий голос Оливера:
— Видишь ли, Генрих, я ничего не говорил отцу о тебе и Элизе; но завтра я ему скажу, завтра или послезавтра, лучше завтра утром, потому что завтра вечером ты снова попытаешься меня убить. А теперь спокойной ночи.
Он ушел и переночевал на сеновале. На следующее утро отомкнул он дверь своей каморки и нашел брата на кровати в глубоком сне. Он разбудил его. Генрих поднялся со смущенным лицом. Оливер спросил его со своей злой усмешкой:
— Ты выбросил в окно только песок, а почему не самого себя?
Генрих схватил его за руки и умолял:
— Не говори ничего.
Оливер сделал гримасу. Тогда Генрих поднял кулаки, но брат уже выбежал из комнаты. До полудня Генрих, снедаемый страхом, еще работал кое-как, наблюдая за отцом и Оливером, словно нечаянно бродившим около него. После же обеда в течение остального дня, когда наблюдение за ними становилось все затруднительнее, неуверенность лишила его стойкости. Он приказал батраку, который должен был отвезти муку в Гент, остаться по какому-то поводу дома, а сам поехал в город. Он не вернулся: он отправился из Гента в Брюгге. Какой-то односельчанин доставил по его поручению повозку обратно и сообщил, что Генрих поехал по делам в Льеж. Так как подобного рода внезапные отлучки были в обычае у Неккеров, то на это сообщение не обратили особого внимания. Только Оливер криво усмехнулся. Элиза заметила эту усмешку, но она была из числа людей, которые мало спрашивают и многое молча переживают. Оливер не знал, скучала ли она о Генрихе или уже и не думала о нем. Он стал с нею приветливее.
Шесть недель спустя Генрих снова объявился в Генте и, без труда узнав, что дома не произошло ничего особенного, в тот же день прибыл в Тильт с деньгами, несколькими кипами тонких платков и значительным заказом на местные продукты. Прием был холодный, ибо у Неккеров чувства не были в почете. Клаэс кивнул ему головой. Элиза слегка улыбнулась и сказала:
— Добрый вечер, Генрих!
Оливер сделал вид, что не замечает протянутой ему братом руки.
И все-таки к одному человеку в это время он был добр без какой-либо преднамеренной цели или скрытой мысли, а именно — к Луизе, самой красивой и самой опасной из его двух сестер. Когда ей минуло восемнадцать лет, она резко изменила свою еле заметную и отнюдь не шумную девичью жизнь. Ее пробудившееся тело некоторое время смущало лишь ее саму. Потом она быстро научилась пользоваться им, пленять им мужчин и находить в этом радость. В ту пору нашла она в Оливере, от которого, подобно другим, доселе сторонилась, — хотя и без проявления ярко выраженного к нему отвращения, — естественного союзника, помощника, гонца, передатчика и защитника. Им не было нужды друг другу открываться, стремиться к общению, добиваться друг у друга доверия и заверять в скромности. Когда она как-то раз вечером выскользнула из амбара, перед ней очутился Оливер и дружески посоветовал ей, ввиду того, что Элиза еще не спит, не возвращаться пока домой, но пропустить вперед батрака Жана, а самой подождать в амбаре, покуда он, Оливер, не стукнет камнем в ворота. Этим у них все и ограничилось. С этого часа стали они сообщниками; устраивали проделки сперва у себя на дворе, потом и на деревне. Они подлавливали мужчин, начиная с подростков и кончая сбившимися с пути почтенными отцами семейства; они дразнили их, обманывали, натравливали друг на друга и покатывались со смеху, когда те дрались, а их жены ревели. Немногие осмеливались жаловаться на них Клаэсу. Старик высмеивал или выпроваживал жалобщиков, ибо знал, что Оливер стоит где-нибудь тут же в углу или за дверью. Однажды Элиза попробовала притянуть девушку к ответу; но Луиза оказалась не одна; из-за ее спины глянул на мачеху Оливер, и та умолкла. Возможно, что Луиза удивилась его власти, а может быть сочла такое влияние соответствующим его поведению; во всяком случае, она не расспрашивала его по этому поводу. Потом дом оказался тесен для ее диких забав, и она поехала с Оливером на большую субботнюю ярмарку в Брюгге. Оттуда Оливер вернулся один. Клаэс спросил о Луизе.