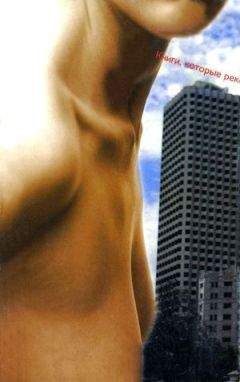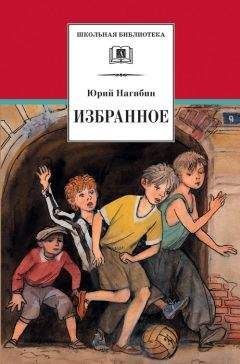Юрий Нагибин - Как был куплен лес
После смерти отца мать удалилась в некий внутренний монастырь. Все, что ранее широко, щедро тратилось на внешнюю жизнь и на мужа, теперь обратилось только на дом и детей. Ее чрезмерная требовательность, властность, неожиданная склонность к фаворитизму создали из домашней жизни некое подобие двора времен Анны Иоанновны. И какая-то угрюмость вдруг обнаружилась в ней. Она сама называла это звучным словом «мизантропия», но в русском варианте заграничная, смесь из тоски, разочарования, отчуждения и нелюдимости отдавала Салтычихой. При всей своей безграничной любви к матери, а может, вследствие этой любви Юлия видела ее без прикрас, без розового флера. И тем радостнее было для нее, что она куда чаще заслуживала восторга, нежели осуждения. А потом мать придумала себе Чайковского, и мизантропию как рукой сняло. Юлия улыбнулась собственной дерзости. Она знала, что мать не «придумала» Чайковского, а пришла к нему путем души, но ей нравилось так вольничать про себя. И в доме вновь стало легко, весело, музыкально, Она никогда не была так близка с матерью, как в «дни Чайковского», и невольно испытывала благодарность к нему за это сближение, хотя где-то рядом с добрым в ней все время шевелилась ревность.
Мать давала ей читать письма Петра Ильича, часто они читали их вместе. Играли в четыре руки музыку Чайковского, пели в два голоса его романсы, говорили о нем. И вскоре Юлии перестало быть в ревнивую тягость постоянное присутствие третьего лица. Ее любовь к матери не была эгоистической, захватнической, а кроме того, она узнала о договоре, заключенном между матерью и композитором: никогда не встречаться. Быть может, если б милый призрак материализовался и стал возле матери во всей грубой несомненности своего земного образа — при бороде и усах, — отношение к нему Юлии стало бы менее снисходительным.
Впрочем, в последнее время ее отношение к Чайковскому сильно поколебалось. Прежде всего Юлию оскорбило, что Петр Ильич так неловко соединил в письме свое намерение посвятить Надежде Филаретовне Четвертую симфонию с просьбой о деньгах. Получилась будто бы обменная сделка. Но гнев матери и собственное размышление убедили ее, что бьющая в глаза очевидность такой неловкости оправдывает Петра Ильича, свидетельствуя о его почти детской наивности. И Юлия была до конца искренна, когда просила у матери прощения за дурные мысли. Правда, она опять не угодила, она позволила себе выразиться о Чайковском как о смертном человеке, а он, оказывается, бог, не подлежащий людскому суду. Но если он бог, то бог жестокий. Ему доверилась высокая, патетическая душа, а он то и дело повергает ее в отчаяние…
Сперва эта нелепая женитьба, затем какое-то судорожное, почти истерическое раскаяние в содеянном, страшное, черное письмо, а после короткого просвета когда повеяло прежним Чайковским, творцом благодати, новый взрыв горести — и вдруг необъяснимое смирение перед судьбой, готовность принять случившееся и, наконец, провал в неизвестность. Мать все чего-то ждала, она не показала Юлии последнего письма Чайковского, лишь глухо сказала, что желает ему покоя, раз нет счастья, что худой мир лучше доброй ссоры. Ото всех этих тривиальностей, столь чуждых Надежде Филаретовне, веяло душевным смятением. Но и это было не так страшно, как теперешняя растерзанность. Это началось, едва они вернулись из Италии и переступили порог дома. Первый вопрос Надежды Филаретовны был о почте. Ей подали всю скопившуюся за время их отсутствия корреспонденцию. Она расшвыряла конверты, убедилась, что письма от Чайковского нет, и почти зримо рухнула душой. Почему ей так важно было это письмо? И что вообще в судьбе и жизни господина Чайковского может так болезненно затронуть мать? В конце концов, у матери к нему интерес чисто музыкальный, конечно, и дружеский, но опять же через музыку. Впрочем, мать всегда доходит до края в своих привязанностях, так же как и в своих антипатиях. Чайковский нанес удар ее гордости, вмешав в их отношения ничтожную, глупую мещанку. Неприятно, конечно, но отнюдь не смертельно. Жизни и здоровью Петра Ильича ровным счетом ничто не угрожает, страхи и терзания матери лишены всякого основания и коренятся лишь в ее могучем, необузданном праве. Придуманный господин Чайковский не состоялся, его реальный образ оказался куда сложнее, мутнее, хаотичнее. Чрезмерную самостоятельность мать трудно переносила и в людях, вовсе от нее не зависимых, отсюда ее вечные контры с мятежным Николаем Рубинштейном, в людях же зависимых — морально или материально — вовсе не терпела. Вот в чем истинная причина страданий матери, — содрогаясь от собственной проницательности, решила Юлия. И пришла к выводу, делающему честь ее доброй душе: все взять на себя. Пусть это и не слишком прилично, она сама напишет Чайковскому. Видать, ему на роду положено получать письма от незнакомых женщин. Она скажет одно: не будьте жестоким. Он поймет, ответит, и мать получит назад свою поломанную игрушку…
…Юлия ошиблась, думая, что Надежда Филаретовна томится бессонницей. Обморочный сон свалил ее мгновенно, и она просто не успела погасить ночника. Это был не сон даже, а какое-то новое существование. В этом странном сне она плакала настоящими слезами и чувствовала свои мокрые глаза; она кричала и слышала свой крик, все, что происходило с ней в этом сне, она ощущала телесно, и, когда очнулась, испытанное оставалось в костях и мышцах.
Ей виделась Москва, московский поздний вечер, промозглый вечер с ледяным ветром и мелким, секущим дождем. И Петр Ильич в черном длинном пальто с поднятым воротником и касторовой шляпе, глубоко надвинутой на глаза, все тащил ее куда-то, сильно, настойчиво и бесцеремонно сжимая ей локоть. Надежде Филаретовне был и радостен и чем-то страшен властный жим его руки, она хотела спросить, куда они идут, но вопрос не получался, словно она забыла, как произносятся слова. А Петр Ильич, догадываясь о невысказанном вопросе, раздраженно твердил: «Надо!», «Надо!», «Надо!» — «Почему надо?»— наконец вырвалось у нее. Спутник не ответил, и тут они оказались у высоких мрачных зданий, бывших одновременно соборами и театрами. Там шла вечерня, но отправляли ее не богослужители, а актеры, и у входа продавались билеты. Это не столько удивило Надежду Филаретовну, она готова была к чему-то подобному, сколько укрепило в тягостных предчувствиях. Она вдруг обнаружила, что храмы безмолствуют и все вокруг погружено в мертвую тишину. «Звуки умерли!» — нетерпеливо и еще более раздраженно пояснил Чайковский, снова угадав ее вопрос. «Неужели вы сами не знаете, что звуки умерли». Но она знала это, только почему-то скрывала и от Чайковского, и от самой себя. Обеззвучились все скрипки, виолончели, флейты, трубы, рожки, ни один клавиш рояля не родит звука, ни одно горло — песни. Музыка умерла, потому что свершилось предательство. Какое — она не умела назвать. Музыка умерла в Петре Ильиче, оттого все смолкло вокруг. И чудовищные храмы-театры возникли из того, что всякая суть утратила свой образ.
Она не удивилась, когда черные громады зданий раздались и будто истаяли в воздухе, а они оказались у темной маслянистой воды. Она сразу узнала Канаву, рукав Москвы-реки и место — возле Большой Полянки, за Малым Каменным мостом. В мгновенно сгустившихся сумерках отчетливо рисовался округлый угол того ушедшего в землю дома, который, по слухам, строил Балашов. Тут все было привычно, как в яви: и высокая каланча в глубине улицы, и аптека против дома Баженова, и фонарь на углу. И две монашки, прошагавшие им навстречу грубым мужским шагам, обметая мокрый булыжник тяжелыми захлюстанными подолами, принадлежали обычной жизни, так же как и солдат-инвалид, пытавшийся раскурить трубочку с помощью огнива, прикрывая тлеющий шнур полой куртки. И вместе с тем все это: дождь, ветер, лужи, набережная, аптека, монашки, солдат — были знаками какого-то иного, оскудевшего, опустошившегося бытия, в котором не осталось никакой малости, ради которой стоило бы жить. И она вдруг покорилась неизбежному, уторопила шаг и первая вышла к каменной лесенке, сбегающей к воде. Река противно хлюпала, будто чмокала спросонок толстыми губами. И что-то плыло по темной, мутной, нездоровой воде — какие-то деревяшки, банки, трупы мелких животных, всякая городская нечистота, ворочаясь, неслась по течению, чтобы в конце пути раствориться в море.
Петр Ильич, чуть отставший, подошел к ней странной, дергающейся походкой, словно его поразил нервный тик, снял шляпу, перчатки вместе с тростью протянул ей. Надежда Филаретовна удивилась, зачем он это делает, и Петр Ильич сказал все так же раздраженно: «Неужели вы не знаете, что шляпу, перчатки и трость следует сдавать в гардероб?» — «А пальто?» — робко и бессмысленно спросила Надежда Филаретовна. «Мы не в театре! — резко ответил Петр Ильич. — Ведите себя прилично!» И тут он вдруг напустился на Карла Федоровича фон Мекка, не потрудившегося за столько лет совместной жизни научить жену, как надо вести себя при самоубийстве. «Инженер-дворянин! — язвил Петр Ильич. — Остзейский дворянин!»— добавлял с дьявольской иронией. Надежде Филаретовне казалось, что мужа он мог бы оставить в покое. Но вообще Петр Ильич необыкновенно нравился ей в эти минуты. Нравился даже дерзким необоснованным осуждением остзейских дворян, допускающих грубые пробелы в воспитании своих жен. Он был очень хорош, Петр Ильич, — выше ростом и стройнее, чем она привыкла думать, суше, подбористее фигурой, лицом колючее, резче. Было в нем что-то мужское и победительное вопреки тому поступку слабости, что он намеревался совершить. И это так заворожило Надежду Филаретовну, что она не пыталась ни остановить, ни отговорить Петра Ильича.