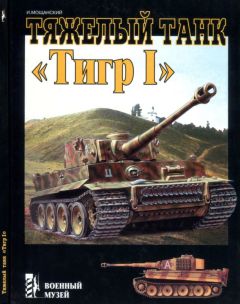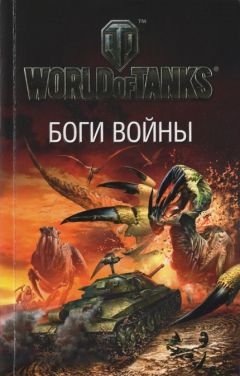Иозеф Томан - Дон Жуан. Жизнь и смерть дона Мигеля из Маньяры
— Gaudeamus! Возрадуемся! День прекрасен, и милость божия с нами.
— Откуда вы здесь так рано, падре? — полюбопытствовала Рухела.
— А я нынче ночевал в Маньяре, уроки же мои из латыни и греческого сегодня отменены: дон Мигель отсыпается…
— Знаем! Знаем!
— Но не знаете вы, милые мои кряквочки, что позавтракал я с Али…
— О, это мы видим, — ободренная ласковым тоном монаха, перебила его Петронила. — Видим, что завтракаете вы второй раз. Это у вас каждый день по два завтрака, падре?
— Как бог даст, о непоседливая дочь моя, — ответил монах. — Когда по два завтрака, а часто — ни одного. Ты же не будь такой языкастой, а то у тебя рано морщинки возле рта появятся.
Петронила, пристыженная, вскочила, бросилась целовать ему руку.
— Ладно, ладно, брось, доченька, — пробормотал старик. — А теперь подойдите-ка вы все ко мне…
Женщины быстро окружили его, и Грегорио стал опоражнивать объемистую суму, раздавая им остатки вчерашних лакомых блюд.
Радуются, благодарят его женщины — они счастливы…
— Я домой отнесу, — говорит Агриппина.
— Ничего подобного! — вскричал старик. — Садитесь здесь и ешьте!
Они повиновались, а монах, зорко вглядываясь в дорогу к замку, начал пространно описывать, какие диковинки прислал из Нового Света дон Антонио племянникам. Изумленные женщины даже есть перестали — слушают, разинув рот.
— Куда это вы все время смотрите, падре? — спросила любопытная Петронила.
— А ты ешь да помалкивай, — буркнул монах, начиная что-то рассказывать — под говор его приятно убегает время.
Женщины распрямляют спины, дают отдохнуть коленям, одна кормит младенца, лежащего в корзине на берегу, другая смазывает стертые колени салом — всем им хорошо.
Вдруг Грегорио завидел на дороге облачко пыли.
— Скорей за дело! — торопливо предупреждает он женщин. — Едет майордомо!
— Дева Мария, не отступись! Ох, что будет!
Едва успели взяться за вальки — Нарини тут как тут. При виде монаха он нахмурился. Не любит майордомо капуцина. Грегорио в его глазах — один из той черни, удел которой служить господам, не жалея сил, однако Нарини побаивается его: как-никак наставник юного графа. Поэтому Нарини всегда старается уклониться от встречи с монахом, не замечать его. Вот и сегодня майордомо повел себя так, словно Грегорио тут и нету.
— Усердно ли стираете? — проскрипел он своим сухим, неприятным голосом.
— Стараемся, ваша милость, — отвечают женщины, не поднимая глаз от белья и не переставая стучать вальками.
— Мало сделано с рассвета! — свирепеет Нарини. — И это все? Баклуши били, ленивое отродье!
Видя, что Нарини уже взялся за хлыст и собирается спешиться, Грегорио подошел к нему.
— Дай вам бог доброго утра, ваша милость. Я проходил мимо и уже довольно долгое время смотрю, как работают эти женщины. От такой работы, вероятно, болят спины и колени — вам не кажется?
Майордомо насупился:
— Не подобает вам, падре, занимать свой ум такими размышлениями.
— Почему? — с удивлением возразил монах. — Когда-то ведь вы сами учили по закону божию, что труд работников следует облегчать.
— Стало быть, вы здесь облегчаете их труд?
— Как можно, сеньор? Наоборот, я жду, что так поступите вы.
— Что? Я?! — Нарини до того взбешен дерзостью старика, что голос его срывается.
— А разве нет? — удивляется капуцин. — До сих пор я полагал, что ваша милость исполняет святые заповеди.
Испугавшись такого оборота, Нарини выкатил глаза, и челюсть его отвисла от неожиданности.
— Я полагал в простоте своей, — продолжает Грегорио, — что святая наша католическая церковь имеет в вашем лице надежного и преданного слугу, который чтит Священное писание…
Страх овладевает майордомо. Одно неосторожное слово — и его могут обвинить в еретичестве…
— Я чту заповеди, — заикаясь, лепечет он, — хотя не знаю, какую из них вы имеете в виду…
Грегорио, почувствовав, что сейчас его верх, воздел правую руку и молвил строго и с силой:
— «Не поднимай руки на работника своего и дай ему отдых в труде его!»
Нарини сунул хлыст в петлю при седле и, беспокойно моргая, произнес:
— Я не хотел бы, падре, чтобы у вас сложилось обо мне превратное мнение…
— Не хотел бы этою и я, — твердо ответил монах.
Поворачивая лошадь, Нарини процедил:
— Желаю вам приятно провести день, падре.
— И вам того же, дон Марсиано, — вежливо отозвался монах.
Через несколько минут от майордомо осталось только облачко пыли, клубившееся по дороге к замку.
Пораженные женщины замедлили движения вальков; они не сводят глаз с монаха, который спокойно отряхивает хлебные крошки с сутаны, собираясь уйти.
— Вы спрашивали меня, как отдыхать, как разогнуть ненадолго спину. Вот я вам и показал. Разогнуть спину, передохнуть, перекинуться добрым словом — оно и богу мило, и для спины полезно. Так-то!
Женщины поняли, рассмеялись радостно и кинулись целовать руки старику. Но тот, отдернув руки, строго проговорил:
— Кшшш, прочь, индюшки! Клюйте что-нибудь получше, чем моя морщинистая кожа! — И, подняв руку для благословения, добавил: — Господь с вами! Да будет светел ваш день!
Затем, повернувшись спиной к ним, зашагал вразвалку к недальнему своему жилищу в Тосинском аббатстве.
Петронила крикнула ему вслед:
— Падре! Разве есть в Священном писании заповедь, о которой вы говорили Нарини?
Грегорио оглянулся на красавицу, усмехнулся и задумчиво проговорил:
— Нету, девушка, а надо бы, чтоб была.
Прачки долго, с любовью, провожали глазами его коренастую фигуру, следя за тем, как поднимает пыль подол его сутаны, потом снова склонились над бельем. Но на сердце у них стало веселее, и искорка надежды затлела в душе.
Ладья отдала свое богатство. Шкуры обезьян — рыжие, светлые, полосатые и в пятнах; выделанные кожи, расписанные яркими красками; индейские боевые щиты, ткани, покрытые узором, повторяющим очертания листьев и цветов; веера из соломы и перьев попугая; ожерелья из когтей коршуна и зубов хищных зверей; раковины, диадемы из пестрых перьев, боевые топоры, тростниковые дудочки, мокасины, луки, стрелы, маски индейских воинов…
Каталинон сдал отчет за дорогу, принял похвалу и золотые монеты и бродит теперь в сумерках по двору, ищет тень тени своей, зеницу ока своего, душу души — Петронилу.
Час настал. Пора нам в путь.
Отзовись на голос мой.
Попроворней, милая, будь,
Поскорее дверь открой.
Откуда-то сверху отвечает ему девичий голос, подхвативший знакомую песенку, которую Каталинон, бывало, так любил слушать из прекрасных уст Петронилы:
Если ты уйдешь босой,
Не придется нам тужить —
Брод за бродом, реку за рекой
Будем мы переходить.
Каталинон догадывается, что голос доносится с сеновала, и торопливо поднимается по скрипучей лестнице. Фонарь освещает горы зерна, где стоит девушка.
Влюбленные упали друг другу в объятия.
— Зачем нам свет? — шепчет Каталинон.
— Хочу разглядеть тебя после долгой разлуки. Хочу увидеть, все те же ли у тебя голубые глаза, — дразнит возлюбленного Петронила. — Что-то они будто выгорели… И странно так смотрят. Это, правда, ты?
— Это я, я, — шепотом отвечает Каталинон и гладит ей плечи.
— Ты вырос, ты возмужал, — без всякого стеснения продолжает та. — Молоко на губах обсохло… И на подбородке щетина — колется! Пусти! Не очень-то ты похорошел там, за морем, а главное, я еще не знаю — поумнел ли…
— Ах ты, лиса! — смеется Каталинон. — Все такая же озорница! — И, снизив голос: — Скажи, Петронила, ты меня еще любишь?
— Видали! — надула губы девушка. — Год целый шатался по свету, как пить дать бегал там за каждой юбкой, а хочет, чтобы я его любила!
— Лопни мои глаза, если у меня что-нибудь было! — божится Каталинон. — А ты была мне верна?
— Я-то была, а вот ты, вертопрах, конечно, нет!
Петронила гладит его по лицу, нежность охватывает ее. Она садится на груду кукурузы, Каталинон — рядом.
— Ах ты, ослик! — дрогнул ее голос, — Я по-прежнему тебя люблю…
Долгий поцелуй… Внезапно Петронила вырывается и в ярости кричит:
— Ага, я знала, ты изменял мне! Бесстыжий юбочник! — И девушка принимается колотить его обоими кулачками.
— Что с тобой? Что ты? — уклоняется от ударов Каталинон.
— Прочь с глаз моих, негодяй! — Тут Петронила ударяется в слезы.
Каталинон делает попытку обнять ее за талию, Петронила отталкивает его. Рвется из рук, кусается, а рыдания ее все горше. Каталинон клянется всеми предками, что он ни в чем не повинен, призывает в свидетели множество святых обоего пола — все тщетно.
— Да как тебе пришла в голову такая глупая мысль? — Каталинон трясет ее за плечи.
— Я сразу узнала, как только ты меня поцеловал! Ты целуешься совсем не так, как раньше!
«А, черт, — думает Каталинон, — как это я себя выдал! Кто бы подумал, святые угодники! Все та девка, сучье племя, с Серебряной реки… Всего-то раз пять переспал с ней, и вот что теперь получается!»