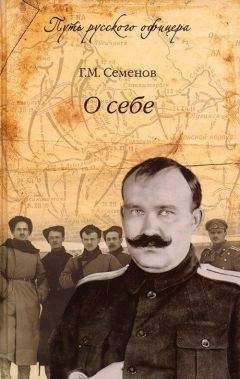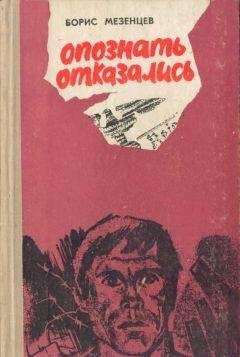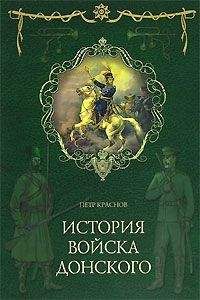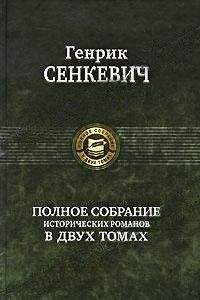Павел Поляков - Смерть Тихого Дона. Роман в 4-х частях
И третий сын родился у бабушки с дедушкой. Валентином крестил. Окончил и он Донской кадетский корпус и пошел в Петербург, в Николаевское Каваллерийское училище. Вступил в нем в лихую казачью сотню, окончил науки и явился на хутор хорунжим 14-го Донского полка. Тут, неподалеку, нашел он себе подругу жизни, тетю Веру. Родня она им какая-то приходилась, для разрешения венчаться нужно было к самому архиерею обращаться. Послали тому архиерею прошеньице да из хуторских продуктов кое-чего, на пару телег наклали. Глядь - а и недели не прошло, вот тебе и нужное благословение отца духовного. И телеги порожние домой счастливо вернулись.
Пошло, побежало время, растила Минушка сыновей, Алексея, Гаврила и Аристарха, и порадовался дед, что и у Сергея сын появился, дали ему при крещении имя Симеона-Столпника.
Шумела вода в колёсах мельницы, приходили зимы с морозами и вьюгами, сменяли их дружные весны, дарили степь урожаем степные теплые лёта и томили душу длинные дождливые ночи осени. Собирались тогда все Пономаревы по вечерам, по очереди то у бабушки, то у дяди Андрея, то у тети Агнюши, единственной дочки дедушки и бабушки, то в доме Сергея и Наталии. Темнело осенью рано. Холодно и неприветливо на дворе. Стучится то дождь, то ветер в плотно закрытые ставни, будто и им охотка попасть в столовую, где за самоваром давно уже вся их семья собралась. Кто сидит за стаканом чая, кто с рюмочкой вина, водки или наливки, а Семен, как правило, с чашечкой чудесного меда, который так мастерски варит сама бабушка. После разговоров о делах домашних и служебных, первым всегда предлагавшим что-либо почитать был дядя Воля. Выбиралось что-нибудь самое новое и попеременно читали все присутствовавшие вслух либо роман, либо повесть, специально выписанные из Москвы или полученные как приложение к журналу «Нива». Заканчивала чтения эти бабушка замечанием, что завтра вставать рано надо, пироги печь будут и что керосин-то опять, гляди, какой дорогой стал.
Вот на одном из таких чтений и решилась судьба Семена. Был тогда в доме у бабушки какой-то проезжий священник, который после доброго ужина поучал ребятишек тому, что все православные христиане должны довольствоваться теми крохами, что падают к ним со стола Господня. Поерзал Семен на стуле и спросил:
- А как же это так? Вот мои дедушка и бабушка, и папа с мамой любят меня не хуже, чем Бог, людей, а кормят не крошками, а всем, чем только захочу.
Крякнул дедушка от удовольствия, долго что-то туманное и нудное толковал в ответ Семену заезжий, а на другой день, за утренним чаем, пристально глянул дед на внука и сказал сыну Сергею:
- Нет, Серега, с тех пор как Семен твой по зайцу плакал, стал я к нему получше приглядываться. Не быть ему такими, как мы были. Слыхал ты, что он вчера упорол? Он, брат, своей головой думать хочет. Из таких хороших офицеров не бывает. Ты как хочешь, а я так думаю, что в гимназию его отдавать придется. Довольно все мы мундиры потаскали. Пусть хоть он что другое делать научится.
Призвали на совет бабушку и маму, расспросили дядю Андрея о том, как там, в Питере, насчет университетов разных и порешили: пусть пока идет малец в церковно-приходское училище на хуторе Разуваеве, а потом повезут его в Камышин, на Волгу, да отдадут в реальное училище, или, как дедушка особенно хотел бы, - в гимназию.
Остался дедушка разговором доволен:
- Во, внучек, приедешь потом на хутор и начнешь с кобелем твоим с Буяном по-латыни объясняться. Того он учености твоей удивляться будет!
По нужному делу останавливается Карий, седоков не спрашивая. Окончит всё, от природы положенное, мотнет хвостом, оглянется, тряхнет головой и гривой, и снова, без понукания, потянет тарантас дальше. Луговая дорожка состоит из двух колей, глубоко проторенных колесами, с прибитой меж ними лошадиными копытами стежкой, по краям обросшей высокой щеткой зеленой травы. Густо, буйно заросли луга по бокам дороги, сочно зеленеют, уходя к речке, а за ней, оставив за собой прибрежные камыши и кугу, стелятся далеко-далеко, под самые бугры, искулиженные солонцами и супесками, полыни Польши, спокон веков непаханные.
- Эй ты, живей!
Только так, для порядка, прикрикивает дедушка на Карего, хлопает его по бокам вожжами и машет высоко над крупом длинным ременным кнутом. Карему ясно, что и дальше может он спокойно идти шагом, как явно и дедушке, что кучерские обязанности свои он исполнил и может говорить и дальше, вернее, вслух думать стариковскую свою думу.
- Так, так... значит, говоришь, в школу с тобой едем, а?
Дедушка замолкает, продолжая жевать давно сорванную травинку, совершенно не заботясь о том, что думает и почему молчит его внук. Семену не нравится то, что будет он там жить «на хлебах» у дальней его тетки Анны Петровны, имеющей там небольшой домик с садом и огородом, что приезжать за ним будут только по субботам и домой забирать только на один день, на воскресенье, что целыми днями бегать с Жако, любимым фокстерьером, уже ему не придется, что мельников сын Мишка, с которым они так хорошо сдружились и открыли так много мест, где так здорово клюют плотва и красноперка, и даже сазаны, будет теперь без него рыбалить, что на всю зиму расстроились их встречи в лесу возле дуплистого вяза, где глубоко под листьями прячут они махорку, бумагу и спички, и где по два раза в день собирались они на общий перекур. Ясно ему теперь, что не будут они больше по разу в неделю обходить все места, где несутся куры, набирать два-три десятка яиц и, потаясь, нести их лесом в хутор Разуваев, к Новичку, единственному не казаку, недавно открывшему там свою лавочку и дававшему ребятам махорку за те яйца. Хорошо понимал Новичок, откуда у ребят меновой товар, понимали и ребята, что важен для него торговый оборот, а не какие-либо иные соображения, и свято хранили обе стороны ту тайну. А ведь тоже наука: обходить катухи, базы и курятники и брать яйца, с таким расчетом, чтобы не засомневалась бабушка, почему это куры в конце недели меньше нестись стали. Ясно, что прекратились теперь и игры в казаков-разбойников, в индейцев, что вечерние посещения помольной хаты будут возможны лишь по субботам. А там всегда так интересно, особенно когда приезжает на мельницу с хутора Гурова старый казак, дед-Долдон и рассказывает свои невероятные истории, нравящиеся не только Семену, но помольцам. Не будет он теперь иной раз обедать у мельника Микиты, украинца, три года тому назад пришедшего к ним подряжаться, как говорил дедушка - только с кнутом, а теперь забогатевшего, и от работы, как мельник, и от доходов от взятой им в аренду от его отца земли. Мельничиха готовит такой вкусный борщ, жарит такие пирожки и печет пышки, что домашняя кухня кажется ему вовсе уже не такой хорошей. Не забираться уж теперь с Мишкой в помольную хату на мешок с пшеницей или рожью, или на столярный верстак, и слушать разговоры и рассказы помольцев, привезших зерно с казачьих хуторов или из хохлацкой слободы Ольховки, или из мужичьего села Клиновки. Многих из них знает он по именам, ко многим уже привык, со многими сдружился, но никто из них так ему не нравится как совершенно седой, всегда аккуратно подтянутый и быстрый в движениях и говоре дед-Долдон. Упаси Бог, назвать его дедом-Долдоном. Плохо бы это кончилось для того, кто бы на это отважился. Панкрат Степанович, - так надо к нему обращаться. Так его в глаза и называют, но за страшную говорливость, бесконечные рассказы, шутки и прибаутки за глаза называют Долдоном. Кончилось неоценимое счастье, учиться надо, к тетке Анне Петровне ехать должен, жить у нее, а тут еще, как сказал дядя Воля, и обязательно грызть гранит наук.
И лишиться тех чудесных минут, когда вечерами, улегшись, наконец, в кровать, ожидал он прихода мамы для того, чтобы перекрестить его на сон грядущий. Так хорошо шуршит тогда ее платье от движения благословляющей руки и так бесконечно дороги ему слова ее и улыбка, и близко, совсем близко, прямо в зрачки глядящие ее синие глаза. Как тепло тогда ему становилось, каким счастливым засыпал он после ее поцелуя. Ясно теперь - засыпать будет он не счастливо улыбаясь, а может статься - плача, ясно - что-то обрывается, кончается и, может быть, никогда больше не вернется. И никак, никакими силами не остановить Карего, положившего барьер своими опытами меж его райски счастливым, так быстро окончившимся детством, и жизнью новой, начинающейся, кажется, такой обыкновенной вещью, как учение в школе...
Семен не то вздыхает, не то стонет, и встречает внимательный взгляд деда:
- Что, внучек, а большой-то охотки, вижу я, нету у тебя в школу ехать. Только, чудак ты человек, пойми - рукой тут подать до дому, и горевать тебе никак не след. А учиться давно тебе пора пришла. И сам, поди, видишь, как время летит. Давно ли щук с тобой ловили, давно ли ты с тьмой твоей египетской отличился, ан, глядь, осень вот она, вот. Ничего теперь не попишешь, учиться тебе надо, как ни крути. А про эту самую «тьму египетскую» давно я тебе кое-что сказать собирался. Бабушку твою здорово ты тогда в сомнение ввел. Крепко верила она проходимцам этим, и на этой на ее вере и всю свою, и нашу жизнь строила. И не только жизнь земную, но и чаемую загробную, вечную. Ан, глядь - святые-то ее люди прохвостами, обманатами оказались, и всё то, об чём они ей мололи, теперь у нее под вопросом оказалось. И вот по этой причине, говорю я тебе - не дюже ты тянись за всяким, кто больно уж забористо что-нибудь показывает или за верой своей тебя потянуть захочет. Помни меня, попомни мое слово - сроду, пока живешь, семь раз мерь, а потом только режь. Вот оно бабушке-то нашей и тяжело стало - всю жизнь верила, а тут - неустойка у нее вышла. Сколько я ей раз говорил: «Да как же ты гвозди от гроба Господня покупала, когда у него и гроба-то вовсе не было, в плащанице его похоронили». Ну, а когда попались мне под руку те монашки, что пуховых подушек не поделили, отвел я тогда на них душу, ох, и перепорол же. А за что порол, за жадность, за то, что корыстью живут, обманом кормятся, добрые, прямые, чистые души в сомнение вводят. А таких, что душу человеческую убивают, вон как в Евангелии говорится, следует с жерновом на шее в воду кидать, да... - дедушка на минуту замолкает, машет кнутом над крупом Карего и снова обращается к внуку: - Служил я, понимаешь ли ты, в Питере. Пришлось мне там в Пулковской обсерватории побывать. И глянул я в энтот самый телескоп ихний. Вот как заглянул я в бездну эту, так и уробел. Как увидал я, сколько их, звезд этих, и какой он, мир наш, огромный, понял я одно - никаким умом нашим не дойти до того, что оно и как сотворилось и откуда всё взялось. А мы здесь сказки да выдумки слушаем, да еще за них пуховыми подушками платим. Пришлось мне в царстве Польском послужить, на Кавказе, на Балканах и в Турции побывать. И у всех у них, у тамошних, у каждого народишки, вот такие же, как и у нас, под их собственную стать «тьмы египетские» попридуманы. И там такие сидят, которые от выдумок этих пользу имеют. Вон у турок, так там хоть одна из выдумок народу на пользу идет - свинину им Коран ихний есть запрещает. Говорят, что пророк и Аллах делать им этого не свелел. Выходит так, что бог ихний против свиней пошел. А когда на проверку, что оказывается - да хворь у них там от свиного мяса получается, вот и придумали, что бог ихний свиней не взлюбил... Так-то, внучек. Норови и ты в жизни ко всему получше приглядываться, Богом дюже не раскидывайся, а понять старайся, что оно и к чему. Поимей ты то, что бабушка наша «искрой Божией» в душе человеческой называет. Чувство это такое, от неизвестного нам Бога данное. Учит оно нас, сдерживает, правильный путь указывает, как и что из того, что в мире этом есть, без ошибки понимать надо, никаких тебе выверток не позволяет, вкупе с совестью твоей действует и содержит тебя в человеческом виде во всех житейских случаях и искушениях... а там - кто он был, да каким он был, да как его звали - это слушать-то слушай, но не дюже старайся из-за каждой мелочи в огонь кидаться. Вон, как наши многие по сей день бороду свою чуть ли не святостью считают... Ну порядки наши народные казачьи, обряды все, как святыню блюди - их люди наши за сотни лет, кровавых лет, правилом своей жизни сделали, обвыклостью всего порядка нашего. И в церковь ходи, только воли попам над собой не давай, а то оглушат они тебя до невозможности. Бессовестных промеж ними много, за копейку на пузе лазят, а служат не Богу, а тем, кто их к нам на Дон посылает. Чужие они нам, для наблюдения за нами поставлены. В старое время у нас народ попов сам выбирал. Понял? Из тех казаков, что честно жизнь прожили, крепко за право свое и шашкой, и словом постоять умели, хорошими хозяевами и отцами семейств были, свет Божий в походах повидали, в войне и мире всё как есть, испытали и передумали. Вот таких, всё больше из изувеченных да израненных и выбирали казаки в попы. Ну, конечно же, грамоту знать был он должен. И не только церковные книги читать, но и иные, чтобы мог он из опыта житейского, мудрости, иными приобретенной, и сам добрый совет мирянам своим дать, добрым, разумным словом, как отец, наставить сумел бы. А у нас что делается - шлют нам из Москвы чиновников на кормление. Жадные они, а многие и справди изголодавшиеся. И все, как есть, только о нутре своем и думают, кадят, да ликом Божим, иконами - торгуют. А ты к иконам этим, Семен, тоже не дюже-то приглядывайся. Кто знает, как Он-то выглядел на самом деле. Не в картинках, нет, а в тебе самом должен Он жить и направлять тебя так, так оно всего лучше. Так-то, внучек... да, о вере, о попах, о народах разных много сказать можно. Еще одно упомни - сплела нас вера наша православная с народом русским еще от Азова. Большой народ, способный, а всю, как есть, жизнь свою, в отличие от нас казаков, в рабстве прожил. Освободили его, верно - освободили, еще лет сто надо, чтобы забыла она крепостное право. Вот и сидит у мужиков этих в душе незжитая злоба и обида, как та рана кровоточащая, и, помня всё это, сохранили они дух бунтарско-холуйский. И как дух этот теперь вытравить, тут здорово мозгами раскинуть нужно. И что будет, если попадет мужику нашему вожжа под хвост - куда он попрет? А было это в старые времена на Руси, крестьянин, мужик, как мы его, вроде трошки с презрением, называем, к земле был привязан, «крепок» ею был. Этим он и державе, государству своему служил, на той земле работая. Помещик же того времени - воевал. Вот они, вместе, и сохраняли сначала княжество, а потом царство Московское. Даже вон сам Петр-царь дубинкой своей не только мужичков, а и дворян одинаково потчевал. Со всех спрос был одинаковый, пока, при Петре Третьем, не вышел закон о вольности дворянской. Стал теперь дворянин паном без обязанностей, а мужик полной его собственностью, рабом безответным. Вон при матушке-то царице Екатерине мужиков иначе как рабами не называли. Это в христианской-то стране, почитай, в середине восемнадцатого столетия... Но всё еще верили мужики в Царя справедливого, ждали, что, коли освободил царь дворян от обязанностей их, то и им, мужикам, волю и землю даст. И верили что царь - за мужиков, что всё дело дворяне лишь ради пользы своей портят. Почему они так и поверили, что Пугачев-то и есть этот самый справедливый царь. И пошли за ним всем миром. Не с тех ли пор и песенка: