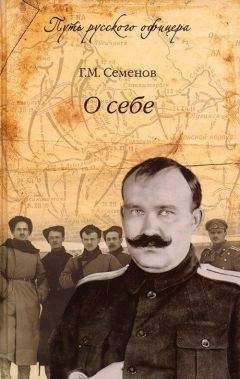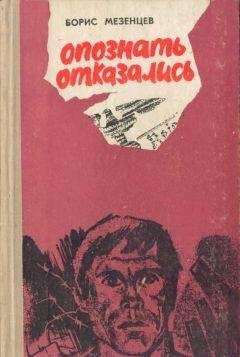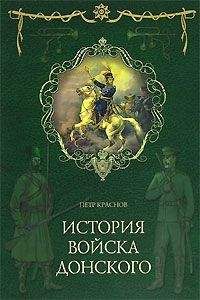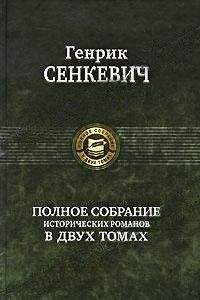Павел Поляков - Смерть Тихого Дона. Роман в 4-х частях
Хоть и точно знала тетка Анна Петровна, что дедушка с Семеном приедут к ней сегодня, хоть и было это раз с двадцать переговорено, удивленный ее крик, восторженное хлопанье в ладоши и смех, веселый и звонкий, быстрое появление на крыльце, и немедленное же исчезновение в курене, всё было неподдельной радостью при виде, наконец-то, приехавших долгожданных гостей. Откуда-то выбежавшая крепкая девка ухватила, распрягла и увела Карего в конюшню, привезенные подарки были немедленно же перенесены в курень, самовар вынесен и поставлен у крыльца на землю, и та же расторопная девка уже раздувала его каким-то старым сапогом. Дедушка, тетка и Семен уселись на балконе в ожидании чая. Со времени отъезда с хутора едва ли прошел час, но уж такой обычай - угостить приехавших полагается по-настоящему. Поди, с дороги-то проголодались. На стол подается всё, чем теткино хозяйство богато, выносится и совершенно высохший, с невероятно твердой коркой лимон. Дедушка доволен, знает тетка, что любит он побаловаться лимончиком. Семену тетка нравится, но первое, что хотелось бы ему - это сейчас же, с места, удрать от стола, перемахнуть через забори, помчаться во весь дух задами по-над речкой, пока не принесут его ноги в родительский дом.
Но ничего из этого желания не получается. После чаепития и осмотра будущей его комнаты заявляет дедушка тете, что отправится он теперь с внуком наведаться к односуму Гаврилу Софронычу.
Народа на улицах хутора не видно. День рабочий, заняты все делами хозяйственными. Только в самом конце хутора, уже у калитки последнего куреня, вон он, сам Гавриил Софроныч, старый, но всё еще прямо держащийся, слегка щурящий глаза румяный гигант. Дедушка весело протягивает ему руку:
- Здорово, односум!
- Здравия желаем! - расцветая улыбкой, отвечает хозяин. - Милости прошу пожаловать с внучком вашим. Заходитя.
Откуда-то из глубины сада выходит и хозяйка дома. В курень дедушка идти не хочет, больно уж в саду хорошо, соглашаются с ним и хозяева, что на вольном воздухе куда способней. За чаепитием, которое немедленно же начинается под высокими вишнями, хозяин орудует и полубутылочкой очищенной. К ней подаются куски тарани. Дедушка и хозяин пьют водку истово, закусывают рыбой, и постепенно завязывается такой душевный разговор, будто вовсе не сидят они где-то в гостях, а в собственном курене, и, того и гляди, выйдет из сада мама или бабушка и тоже подсядут к столу. Радушные хозяева подробно узнают от дедушки о здоровьи всех его чад и домочадцев, о том, что, наконец-то, отелилась та корова, которую купили они у Сидора Петровича, казака с хутора Киреева, знатного, что на левую ногу припадает. Что жеребца, которого так хорошо в прошлом году приторговал дедушка на ярмарке в Ольховке, продал он одному купцу в Камышин, и с пользой продал, что слыхали они вчера от одного помольца, хохла из Ольховки, что у дальнего их родственника, Александра Ивановича, того, что его Обер-Носом величают, свинья пороситься начала, да околела. Что у вдовы-майорши, Марьванны, две наседки пропадало и убивалась она за ними страсть как, всё думала, что хори подушили, когда позавчера глядь - идут они обе от речки из лесочка, того лесочка, возле которого в позапрошлом году телок в трясине завяз и чуть не утонул, спасибо, стряпуха купаться пошла, да увидала, да так вот из того лесочка идут они, наседки, и каждая, одна шесть, а другая восемь штук, цыплят за собой ведут. Ведь вот оказия-то какая, поди ж ты, животные, вроде, а тоже мысли свои имеют.
Дедушка подмигивает:
- Не иначе это как от майоршиного пения, не каждый выдержит.
- Никак не иначе! - Гаврил Софроныч прекрасно знает, что, хоть и старушка она Божья, майорша, но всем взяла: что походкой, что дородностью, что хозяйской ухваткой, что приветом и лаской, но есть у нее одна беда - иной раз петь любит, а ни голосу, ни слуху. Вот и неудивительно выходит, что и наседки от нее со двора бегут...
От хозяина куреня узнают дедушка и внук, что сад его в этом году, Богу слава, уродил хорошо - всего завались. Тут же получает Семен наливное яблоко, и сам, в который раз, с удивлением видит сквозь прозрачную кожицу глубоко внутри его легкие тени семечек.
- Такуя яблоко, - гордо говорит хозяин, - хучь к царскому столу... гм... кх-ха, - и вдруг обрывает сказанное.
- Что это ты, вроде поперхнулся? - дедушка хитро щурится, прекрасно знает, он, что дружок его и бывший сослуживец по атаманскому полку, с детства, от деда и прадеда, не только о царях, о самой России и знать не хочет...
- А вы, вашсокблагородие, Алексей Иваныч, не дюже вспрашивайтя. Тут не захочешь, да заикнесси. Сами не хуже мине знаитя, от отца вашего покойника, от деда вашего, царство яму небесная, сами слыхали, как они, цари ети, с нами, казаками, обходились. За что, спросю я вас, Платов-атаман, Наполеонов побядитель, в Петропавловскуя крепость посажен был? За что Грузинова полковника с братом в Черкасске кнутами до смерти забили? Как он, Стяпан Тимофеич, на Красной площади в Москве под палаческим топором Богу душу отдавал? И как вы яво не называйтя, а за народнуя он правду шел, Емельян Пугачев. А о Булавине уж и гутарить не станем - посля няво окончательно попал Дон наш в Московскую неволю. И што посля всего того началось - да придавили нас до отказу, штоб нас поделить, сословия у нас взяли, дворянев из казаков понаделали, да, кромя того, на генеральном размежевании, отхватили с миллион десятин земли казачьей да и прирезали ее к Расее. Вот теперь и сидим мы с вами на самой на границе Войска нашего, ить граничные-то столбы раньше тут, у нас, не стояли, а во-о-он иде, аж за Камышином... а войсковых атаманов, спросю я вас, могём мы теперь выбирать, ай нет? Не могём! И не только, што не могём, а даже наказных атаманов нам запрещено из казаков посылать. Все из каких-то российских дворянев, то Покотилы, то Граббе, черти кто. А ить вольный мы народ допреж того были, сами по сабе жили. Так ан нет - говори!
Гаврил Софроныч и не замечает, что, разгорячившись, перешел он «на ты», не замечает того и улыбающийся дедушка, только всполошившаяся хозяйка вдруг вскакивает со стула, схватывает со стола водку и, чуть не плача, причитает:
- И всё ето от её, от проклятой. Сроду он у мине такой - ни к кому ни почтения, ни уважения. Хучь бы посовестилси с господином полковником так говорить, рыла твоя неумытая!
- Стой, стой, - дедушка придерживает водку в руке казачки, - станови-ка ты ее назад. Хоть он, Гаврил твой, и перебрал чудок, я еще до точки не дошел. А с ним мы односумы, каждое лыко в строку не ставим.
Гаврил Софронович чувствует себя крайне неудобно. Действительно перебрал трошки:
- Так я чаво-ж, к слову ета, боле б истории, про жизню про нашу, - и вдруг снова разгорается, - а вот повяду я вас обоих на выгон, покажу старый столб граничный, што думаитя на ём написано, а?
Вскочив от стола и не глянув, идут ли за ним его гости, чуть не бежит через сад хозяин с едва поспевающими за ним дедушкой и Семеном. Далеко идти не приходиться. За базами, за канавой, вырытой меж садом и выгоном, в выемке, в которой берут теперь хуторцы глину для хозяйственных надобностей, лежит большой замшелый, длинный камень, служивший когда-то пограничным столбом. Все спускаются в яму и по указанию Гаврила Софроныча с трудом читает Семен глубоко высеченные в темном граните слова:
- «Земля Войска Донского».
- Ага! Понял? Так и упомни - была она, наша граница казачья державная. Да пришел ихний мужичий царь Петро, да перебил тыщи казаков, да пожег городки наши, да отнял и солеварни, и земли, да заставил нас, казаков, Рассее ихней служить. А ить были мы до ниво сами по сабе. Вот и приволок он аж ис-под Камышина суды, к нам, столбы эти. Вот он и дедушка твой, в больших он чинах, в дворянском звании, а нехай он тебе тоже правду расскажить, нехай скажить - бряшу я ай нет.
Семен вопросительно смотрит на деда, тот, нисколько не смутившись, спокойно выбирается из ямы:
- Знаешь, что, односум, пришлю я завтра работника с парой лошадей. Уложите вы столбок этот на телегу, да отвезите его в хутор Гуров, в церкву к отцу Савелию. Правильный он поп, наш, казачий. Ему я и письмецо напишу. Грех это - такая бесценная вещь у вас здесь по ямам валяется. Вот шумишь ты, а сам по ноне не догадался камень этот как след блюсти. И хуторскому атаману скажи, что я это свелел. А то, что ты внуку моему говоришь, за то тебе спасибо, придет время, подрастет он чудок, тогда я ему, без водочного духу, всё сам расскажу, думаю, не хуже твово. Понял ты ай нет?
Гаврил Софроныч понимает, что друг его, Алексей Михайлович, во всем прав и что вел он себя не совсем-то так, как полагается.
- Ну, спаси вас Христос, верно, перебрал я чудок... а ты, вашсокблагародия, хучь и дворянин, но сумел правильную слову сказать, с весом. Ты уж на мине не сярьчай.
- Нам с тобой друг на дружку серчать не приходится... Одни у нас думки, да силов нету.
Дедушка отряхивает чекмень и все отправляются к куреню. Под той же вишней сидят до позднего вечера, пьют домашнюю наливку, вспоминают Польшу и службу царскую, и нет в мире той силы, которая могла бы их сейчас разъединить.