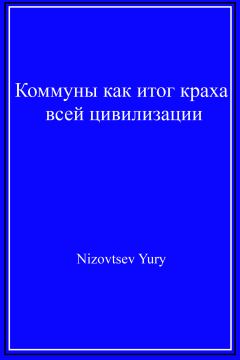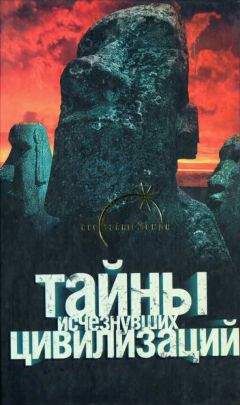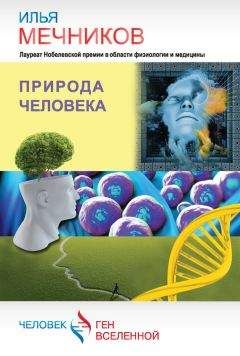Руфин Гордин - Василий Голицын. Игра судьбы
— Отвыкай. Что Господь дал, то и возьми без ропоту. Роптать грех. Да и есть ли в том смысл.
— Не могу в то поверить, что забыта я в миру, что столь велика людская неблагодарность. Сколь много сделала я добра. Правила ведь по справедливости, по Божьим законам.
— Вестимо, есть человеки, кои тебя добром поминают. Да что в том. Нет у них силы тебя вызволить отсюдова.
— А я верю — много их. И копят они силы. Не может того быть, что мои семь лет следа не оставили в душах.
— Угомонись, Софьюшка, угомонись, Богом тебя заклинаю. Не будет добра тебе, коли не угомонишься. Оглянись: иные на плахе жизнь покончили, иные с чадами и женами в снегах и пустынях скитаются.
— Ты о князе Василии, о любезнике моем? Петрушка еще пожалеет, что услал его, лишил имения и чести. Мудрейший человек князь Василий. Тебе одной скажу: его советами жила и правила, он во мне государственный ум пробуждал. И преуспел.
— У государя нашего нет жалости ни к кому, коли он супругу свою богоданную, царицу Евдокию, в монастырь упек, да и тебя, сестру, не пощадил. Ты о сем помни.
— А я все едино не угомонюсь, — тряхнула головой Софья. — Не в моем это чине. Хуже нынешнего что может быть?
— Может, может. Ты ведь не пострижена. Может, вернет царь князя Василья и сочетаетесь вы законным браком. А коли станешь бунтовать, прикажет он тебя постричь. И тогда всякая надежда померкнет.
— Ничего уж я не боюсь! Перестала бояться. Ты мнишь, что он, Петрушка, окажет князю милость. Да никогда! Дошло до него, что князь говорил против него и против мачехи и не токмо говорил, но и наущал стрельцов погубить их. И под пыткою на меня показали и князь Иван Хованский, и Федор Шакловитый, что злоумышляла я всяко и супротив него, и супротив мачехи, равно ненавистных. Да, злоумышляла, перед тобой не отопрусь. И колдунов зазывала, дабы они порчу на них навели, и заклинанья разные сказывала, на ветер пущая, и травы губительные подкладывала, и пожар в Преображенском устроила, и стрельцов подучила убить их. Но заговоренные, видно, они… Не взяло.
— Вот видишь, сестра. Стало быть, отступись. Противу тебя вышние силы, и козни твои не досягают.
— Нет, Катерина, не отступлюся я до последнего вздоха. Все во мне бунтует, все кипит. Досель я не могу спокоиться. Видно, такова я есть. Покамест не выйду отсюда живой либо мертвой — не угомонюсь.
— Прошу ведь не я одна, просим мы с Марьюшкой и с Марфушею — смирись ты. И станем жить в покое.
— Покой нынешний мне ненавистен. Уж лучше, по мне, покой загробный.
— Что ты, что ты, Софьюшка! Как можно, — замахала руками царевна Катерина. — Не греши. Христа ради! Ты ведь и нас из затвора вывела. И мы вольней стали — вовек того не забыть. Прежде из терема-то не моги выйти, лика никому не показывай. А мы, как ты вырвалась из терема-то, легче дышать стали. И — чего уж греха таить — завели галантов. Изведали, какова есть плотская любовь…
— Нет выше блаженства, — подхватила Софья. — Быть может, я и грешу, ну коли Господь дал нам познать утехи плоти, коли он создал для сего мужчину и женщину, то так тому быть, на то его вышняя воля.
— Так оно, так, — охотно согласилась Катерина и при этом вздохнула, быть может, при воспоминании о былых радостях. Глядя на Софью, все они сорвались с узды, словно кобылицы, вырвавшиеся из стойла, на простор, где пасутся жеребцы. Софья-правительница им мирволила, бояре косились, но помалкивали, патриарх делал вид, что не ведает, тож и мачеха. А братья-цари по молодости не решались.
— Худо нам без тебя на державстве, — призналась Катерина. Она было открыла рот, чтобы договорить, как вошла царевна Марфа. Поймав обрывок разговора, она заголосила:
— Еще как худо-то. Была ты, Софьюшка, на державстве, мы и горя не знали. Бывало, придешь в приказ Большой казны али в другой какой и скажешь: издержалась я, подайте мне полтыщи рублев. Отказу не знали. А теперь… — и она, не договорив, махнула рукой.
— А что постельница твоя, что к стрельчихам ходит? — спросила Софья. — Допыталась ли, сколь недовольных, можно ль с ними снестись?
— Ходит она к ним, да токмо опасается сильно. Я ей сказала: смотри, мол, я тебе верю, лишнего не молви, а коли пронесется, то тебя распытают, а мне-то ничего не будет, разве что постриг. А недовольных тьма, сказывали ей стрельчихи. Особливо те, что в рати боярина Михайлы Ромодановского. Велено ему их распущать, а быть в Москве не велено, потому как должны они нести службу в порубежных городах. А другие — в Азов, на погибель от турка.
— Коли она расторопна да надежна, дам тебе грамотку к стрельцам. Пусть пронесет.
— Давно бы так, — оживилась Марфа.
— Да ведь вот сестрицы Катерина да Марья велят мне угомониться, а более мне держать совет не с кем. Был бы князь Василий, верно бы поступила. С его согласия.
— Ой ли, — улыбнулась Марфа. — Будто ты всегда с ним в согласии была.
— Случалося в размолвке, но не столь уж часто. Он торопыга был, все норовил не ко времени, против обычая. А ныне страждет. Известьев от него нету, — слезы брызнули из глаз. Прежде глубоко они таились, а теперь чуть что — тут как тут.
Сестры бросились ее обнимать, им тоже чинились многие препоны, приставлены были соглядатаи, дабы галантов отвадить. И все князь-кесарь проклятый. Сидит себе в Преображенском, тамо приказ оборудован, пыточные каморы, завел шептунов-шпионов под видом монахов да странников, деньги им немалые платит. Казнит, пытает да языки урезает. Житья от него не стало. Великую власть дал ему царь Петр, таковой еще в государстве не бывало.
Выплакалась Софья. Сказала угрюмо:
— Слава Богу, хоть комнатный стольник князь Кропоткин настиг Голицыных в Вологде да передал страдальцам деньги, кои посылала, и грамотку. Утешно писала, да что с того: муки великие терпят. Какие тут слова надобны, чтобы тягость эту снять? Хоть бы Петрушка ненавистный таковые муки изведал! — вырвался у нее крик.
— Тише, тише, сестрица, — испуганно зашептали сестры царевны, — у кесаря проклятого всюду уши понатыканы.
— А я что, — уже спокойно отвечала Софья. — Я про Петрушку, а не про царя-антихриста. Да и не боюся ничего, хуже ведь не станет.
— Может стать, — сказала рассудительная Катерина. — Ныне ты прокорм получаешь из дворца, вина да пива, рыбу да меду, опять же при тебе верная кормилица старуха Вяземская да девять постельниц. Иные вести переносят, иные одевают да обувают. А коли одна останешься, как жить будешь?
— Руки-ноги при мне, — беззаботно отвечала Софья. — Авось не пропаду.
— Он ведь неумен в мстительности, — продолжала свое Катерина, а Марфа кивком головы подтвердила — согласна, мол.
— Бог не выдаст — свинья не съест.
— Это смотря какая свинья, — улыбнулась Марфа. — Вот надысь в Устюге случай был: свинья дите пожрала.
— Велико ли дите то было? — округлила глаза Софья.
— Осьми, сказывают, месяцев. Ползало по полу, вот свинья-то и набросилась. Свинья свинье рознь, — поучительным тоном проговорила Марфа.
— Того не бывало, чтоб царскую дочь в тюрьму запирали.
— А нешто монастырь не тюрьма? — вскинулась Марфа. — Он свою супругу богоданную в монастырь вверг, а ты говоришь, дочь. Царицу венчанную. Посадит тебя на хлеб да щи капустные — не охнет. Сейчас тебя пирогами подовыми наделяют, да осетриною паровою, да говядиной разварною. На молебны в храмы ходишь… а сколь ты князю своему послала денег-то? — неожиданно переменила она тему.
— Пятьдесят рублев серебром, — вздохнула Софья.
— Деньги немалые, — вступила Катерина. — Да ведь коли своего, хозяйства нету, издержит их быстро. Ртов-то у него сколь?
— Считай, пятнадцать, — неуверенно ответила Софья.
Прежде она как-то не задавалась, велика ли семья у князя Василия. Должно не менее пятнадцати душ: супруга, Алексейко старший, четверо вроде младших, племянницы от покойного брата, тетки… А ближние услужники — камердинер, спальники, нянюшки да мамки — эти не в счет. А ведь немало их небось. Старые слуги — как их оставить? Да они и сами норовят вслед за господином ехать. Небось в обозе у князя душ эдак тридцать-сорок, думала Софья. Преданные слуги всегда в великой цене были. Преданность дорогого стоит. Преданный он и на дыбе своего господина не выдаст.
Задумалась Софья, да и сестры приумолкли. Вроде бы был ей предан и душой и телом Феденька Шакловитый, а на пытке оговорил-таки ее. Самое сокровенное не выдал, сказывал только, что отговаривал ее вместе с князем венчаться царским венцом, еще что гневна была зело на брата Петра…
И вдруг словно молния пронзила ее мысль: ведь она выдала Шакловитого. Не сразу, сопротивляясь, но все-таки выдала. Зная, что на верную смерть. Могла ли пойти наперекор воле Петра? Если сильно воспротивилась бы, как за близкого, как за ближнего… И с ужасом подумала: не могла. Воля Петрушки была сильней ее воли, власть его — сильней ее власти.