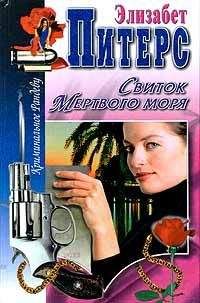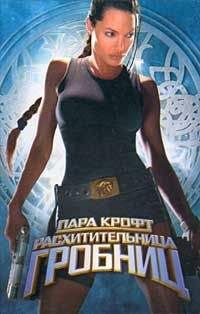Айван Моррис - Благородство поражения. Трагический герой в японской истории
В то время, как позитивные черты жизни и характера героя преувеличиваются (или даже полностью выдумываются), менее привлекательные стороны окружаются молчанием и оказываются забытыми до тех пор, пока их не эксгумируют роющиеся в старье историки или поздние поколения. Так, в легенде о Мартине Лютере ничего не говорится о его яром неприятии крестьянского восстания, которое он в достаточной степени сам же и вдохновил; так же и в случае с Сайго Такамори мы слышим о его заступничестве за истощенных работников на сахарных плантациях, но ничего о том, что он ничего не сделал, чтобы помочь им именно тогда, когда имел для этого реальную возможность. Один из результатов процесса создания легенды, с его сложным ходом преувеличений и укорачиваний, — создание психологически неполной и недостоверной персоналии. Так, «более темная сторона» характера Сайго, где было и чувство вины, и необходимость в самоуединении, и вспышки ярости, и склонность обращать эту ярость не только против «продажных» врагов, но также и против самого себя, желая себе гибели, как в легенде, так и в истории обходится стороной. Этому, однако, существуют неоспоримые доказательства.
Приняв за должное тот факт, что в конкретный момент японской истории требовался объединяющий людей национальный герой, и что этот герой вскоре оброс массой легенд, мы все же остаемся перед центральным вопросом: почему из всех значительных личностей годов Реставрации именно побежденный бунтовщик наиболее полно ответил всем требованиям, и как мог такой человек, как Сайго Такамори, представлявший устаревшие, «феодальные» ценности, почитавшийся лишь старомодными и шовинистически настроенными японцами, смог сохранить популярность, несмотря на полное изменение в восприятии эпохи за прошедшие десятилетия? Причиной, разумеется, являются не какие-либо его особые способности. У Сайго не было ни одного из политических или экономических талантов Окубо или Кидо, или военного умения генералов Ямагата и Ноги. В удачных сражениях против Бакуфу он был всего лишь одним из многих выдающихся лидеров, а его сильный характер не был исключением среди членов правительства Мэйдзи. Когда, наконец, он порвал с коллегами и пошел своим путем, результат оказался катастрофическим; это привело к результату, прямо противоположному ожидаемому. И все же именно он, а не кто-либо из других, более удачливых основателей современного японского государства, стал самой почитаемой фигурой того периода, символом сопротивления несправедливостям властей.[735]
Вероятно, жизнь Кусуноки Масасигэ являет собой самую близкую аналогию. В соответствии с легендами, и Масасигэ, и Сайго возглавили борьбу ради свержения злодейского Бакуфу и добились успеха в «восстановлении» у власти соответствующих императоров (Годайго и Мэйдзи); позже, однако, оба они пали жертвой своих прежних союзников (Такаудзи и Окубо) и потерпели окончательное поражение от их предательских рук. Весьма знаменательно, что Сайго и его споспешники использовали в качестве пароля слово кикусуй — хризантема — которая была изображена на гербе Масасигэ за полтысячелетия до этого. А легендарная сцена расставания Сайго со своим сыном, когда герой отправлялся в свой последний поход, полностью аналогична прощанию Масасигэ с Масацура, и обессмертилась в песне Сакураи:
Улицы были полны народа, когда Сайго отправлялся в поход. Большинство было уверено в его победе. Торатаро, его сын двенадцати лет, был приведен, чтобы проводить отца. Увидав его, Сайго сказал: «А, ты здесь». Торатаро прошел за ним несколько сот метров, когда он молвил: «Иди домой, мой мальчик», и Торатаро пришлось повиноваться. Приготовившегося к смерти, Сайго, казалось, не волновали самые трогательные моменты жизни.[736]
Уже было сказано, что Сацумское восстание было последней войной с чисто национальным оттенком, знаменовав собой конец героической фазы в японской истории; сам же Сайго Такамори описывался, как последний истинно японский герой.[737] Разумеется, в современном мире произошли изменения, сделавшие традиционную форму японской героической неудачи анахронизмом, так что трудно представить себе какое-либо значительное возрождение раннего образца. Тем не менее, многие из фундаментальных основ дожили до двадцатого века: во время войны на Тихом океане летчиков-камикадзе называли кикусуй, и эти молодые люди почитали «презревшего смерть Сайго» своим духовным предшественником.[738]
Глава 10
«Нам бы только упасть…»
Нам бы только упасть,
Подобно лепесткам вишни весной, —
Столь же чистыми и сияющими!
Хайку пилота-камикадзе из подразделения «Семь Жизней», погибшего в феврале 1945 года в возрасте 22 лет.[739]…Летательный аппарат был самой простой конструкции и непритязательного дизайна, предназначался для сугубо одной цели. Три твердотопливных реактивных двигателя были установлены в конце фюзеляжа и работали в заключительной фазе полета. [Летательный аппарат] обычно крепился к двухмоторному бомбардировщику «Мицубиси» и запускался на большой высоте на некотором расстоянии от цели. При выходе на атакующую позици включались реактивные двигатели для последнего пике на высокой скорости сквозь защитный экран к цели.
Описание: Одноместный моноплан со средним размахом крыльев. Конструкция из дерева и мягкой стали. Размах крыльев 16' 15''; длина 19' 18'', вес без груза 970 фунтов, с грузом — 4700 фунтов, вес взрывчатки в носовом отделении 2650 фунтов.
Применение: летательный аппарат может планировать 50 миль со скоростью 230 миль в час после запуска с носителя на высоте 27000 футов. С работающими моторами аппарат пикировал со скоростью 570 миль в час.
Мощности: три твердотопливных реактивных двигателя общей тягой в 1764 фунта за 9 секунд.[740]
Так представлено посетителям Лондонского научного музея одно из самых странных и наиболее пикантных видов оружия в истории войн. Поддерживаемый тремя тонкими канатами, он незаметно парит у задней стены на третьем этаже, заслоненненный крепкими «Хаукерами», противолодочными «Спит-файерами» и турбовинтовыми «Глостерами» — небольшой зеленый кокон, меньше, хрупче и проще расположенной неподалеку летающей бомбы У-1, однако, в отличие от своего германского коллеги, приспособленного для транспортировки живого воина к его пламенной цели.[741]
Японцы нaзвали его «Оока» — «вишнeвый цветок», являющийся древним символом чистоты и недолговечности.[742] Американцы, для которых предназначалось это миниатюрное произведение, обозвали его «бака [дурацкой] бомбой», — как будто принижая это мрачное оружие они могли избавиться от беспокойства, которое оно инстинктивно вызывало.[743]
С точки — зрения здравого смысла в этом действительно было что-то от абсурда. Чтобы сотни молодых пилотов забирались в эти «чудеса» изобретательской мысли — простые деревянные торпеды с игрушечным фюзеляжем и крыльями-обрубками — чтобы броситься на левиафаноподобные авианосцы и боевые корабли американского флота — это действительно могло показаться предприятием идиотским, даже неправдоподобным для тех, кто был незнаком с древнеяпонской героической традицией и тем ореолом благородства, которым традиция увенчивала безнадежные поступки, на которые толкала искренность побуждений.
Принцип был достаточно прост: по мере того, как обычные средства воздушной войны быстро становились неэффективными, Япония стала внедрять одноместный планер, который транспортировали на большой высоте поближе к цели; затем он «нырял» вниз с безумной скоростью, чтобы взорваться на вражеском корабле. Использование подобных управляемых бомб с человеком внутри позволяло транспортирующему самолету возвращаться на базу в безопасности и быть использованным для иных миссий. Сам же самоубийственный снаряд с тонной тринитроанизола был предназначен для потопления, или, по крайней мере, выведения из строя кораблей вражеского флота, которые медленно затягивали петлю вокруг родных островов; вдобавок к этому, новое тайное оружие должно было ужаснуть и деморализовать иностранцев, которые не были психологически подготовлены к подобным методам ведения боя.
«Оока» был спроектирован так, чтобы его можно было аккуратно пристроить под фюзеляжем несущего самолета, обычно — модифицированного бомбардировщика «Мицубиси G4M2e» называемого в просторечии «Бетти». На протяжении основной части полета к цели камикадзе обычно сидел с пилотом несущего самолета. Когда они приближались к месту, откуда можно было увидеть американские корабли, он говорил свои прощальные слова, отдавал честь, а затем пролезал через бомболюк несущего самолета в тесную кабинку летающего гроба, в которой ему оставалось провести последние минуты своей жизни. Оснащение, сведенное до предельного минимума, включало ручку управления и сигнальную трубу, через которую он мог говорить с пилотом бомбардировщика до момента отделения. Когда цель бывала опознана — обычно на расстоянии около двадцати пяти миль — камикадзе тянул за рукоятку отделения. Его аппарат отходил от днища несущего самолета и начинал планировать с одновременным снижением, набирая скорость до двухсот тридцати миль в час. Приближаясь к вражескому кораблю — быстро растущей точке в океане, он приводил в действие ракетные двигатели, укрепленные прямо за его сидением безо всякой защиты. Они немедленно усиливали тягу, и скорость достигала шестисот миль в час (для тех времен — фантастическая цифра), что помогало сохранить драгоценный груз от вражеских истребителей и заградительного огня. Готовясь к самоубийственному «нырку», пилот увеличивал угол падения где-то до пятидесяти градусов и, предполагалось, что мчась навстречу своей жертве, он держит свои глаза открытыми вплоть до последнего мгновения, поскольку малейшая поправка к курсу могла изменить судьбу его цели.