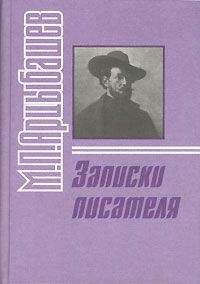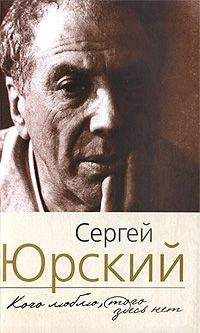Юрий Герман - Россия молодая. Книга первая
— Ничто, — тихо молвил бывший поручик, — ничто, еще поживем, еще достанется нам и хорошего. Все еще будет, все…
Пошел по снегу, откинув голову назад, глядя в небо: оно уже высветилось, звезды мигали робко, словно бы таяли. Призывно, громко, настойчиво заржала на конюшне кобылка Ласка. Крыков вошел в теплый денник, на ладони протянул Ласке кусок круто посоленного хлеба. Ласка взяла мягкими губами, уши ее запрядали. Афанасий Петрович похлопал ее по шее, поборолся немножко с таможенным конюхом, повалил его на солому, спросил:
— Смерти?
— Живота! — попросил жалобным голосом седобородый, крепкий, как медведь, дед Кузьма.
— А может, смерти?
— Живота, живота, Афанасий Петрович!
— То-то!
Потом дед Кузьма охал, прикидываясь увечным, крутил головой:
— Ну и силища у тебя, Афонь, ах-ах! С такой силищей на медведя ходить…
— Вот ты у меня и есть медведь, дед Кузьма…
Вернувшись в еще спящую ради воскресенья таможенную избу, разбудил Евдокима Прокопьева, сел рядом с ним на лавку, спросил:
— Как нынче жить будем, Евдоким Аксенович?
Прокопьев посмотрел на Крыкова сонным взглядом, сладко зевнул, потянулся и сказал:
— Авось, до своего дня и доживем. Ты, я зрю, ноне повеселее сделался?
— Повеселее будто бы! — ответил Крыков.
7. День за днем
К Василию-солнцевороту многие люди на верфи в Соломбале занемогли цынгою. Лекарь-иноземец, в коротком черном кожаном кафтане, подходил к недужному, смотрел десны, больно выворачивал веки, сгибал руку или ногу, потом длинным пальцем писал в воздухе крест. Надзиратель немчин Швибер, пристроенный на верфь полковником Снивиным, спрашивал, чем помочь, — лекарь пожимал плечами.
Цынга валила с ног человека за человеком.
Да и как было ей не разгуляться на верфи?
Утром на всех варилась похлебка — бурдук из ячменной муки, в обед на верфи били в било, несли деревянные кадушки с заварухой — вареной репой с квасом, с солодом. Более ничем не кормили. Хлеб был мокрый, сырой, с корьем и щепками. На рождество дали саламату — толокно с вонючим нерпичьим жиром. От саламаты многих работных людей раздуло, дед Федор в тот же вечер помер. Помер тихий медник с Пробойной улицы, похоронили тяглеца Еремея.
В ночной темноте, под свист метели, когда от злого мороза трещали углы в избе трудников, старики, согнанные из дальних деревень, негромко пели:
Внуши де мати плач горький
И жалостный глас тонкий,
Виждь плачевный образ мой,
Прими, мати, скоро во гроб твой,
Не могу аз больше плакати,
Хотят врази меня заклати,
Отверзи гроб мой, мати,
Прими к себе свое чадушко…
Заводили тоскливые божественные старины: сон богородицы, страдание Христово. Более всего нравилось слушать мучения Иосифа Прекрасного, «егда продаша братие его во Египет…».
Митенька совсем отощал, в его завалившиеся черные глаза страшно и грустно было смотреть. Семисадов отпаивал хроменького наваром хвои, Рябов отдавал ему почти все, что приносила Таисья. Митрий сох на глазах. Не по силам была ему работа с топором, не мог ворочать тяжелые обмерзшие бревна…
После рождества слег Семисадов. Рябов подсел к нему, потрепал по плечу, сказал угрюмо:
— Вставай, брат. Перемогись. Знаешь сам, как с ей воевать, с цынгой. Ходи ногами…
Семисадов еще раз поднялся, вышел на морозец, взял на ладонь снегу, лизнул, попытался тесать бревно, но сил не хватило; слабо, растерянно улыбаясь, вернулся в избу. В субботу пришел Дес-Фонтейнес, посмотрел Семисадову десны, согнул руку, сказал четко:
— Можно работать. Лежать еще рано. Да, работать!
Семисадов попытался подняться — не смог. Надзиратель Швибер ждал, поигрывая коленкой. Погодя спросил:
— Знаешь, как надо помогать коню, когда он упал?
Семисадов не ответил. Лежал у печи — большой, костлявый, с тоской смотрел на иноземца, — знал, тот будет бить кнутом. Швибер оттянул кнут за спиной, размахнулся, для начала ударил по полу. Как раз в это время Рябов, выкатывая лесину, провалился в полынью и шел в избу переодеться. Ему навстречу бежал Митенька с известием — Семисадова иноземец Швибер собрался до смерти убивать.
Кормщик рванул дверь.
Швибер оглянулся и помедлил бить.
— Брось кнут-то! — молвил кормщик.
Надзиратель искоса посмотрел на кормщика, послушал, не идет ли кто, спросил:
— Он встанет сам?
— Встанет! — сказал Рябов.
— Ты так говоришь, что я могу верить?
— Можешь!
Швибер ушел.
Рябов переоделся в сухое, снял льдинки с бороды, сел на пол рядом с Семисадовым.
— Не встать мне, пожалуй! — сказал Семисадов. — Ослаб больно!
Но Рябов заставил его встать и выйти на работу еще раз, сварил ему хвои, велел пить сколько может. Семисадову стало получше. Но надолго ли? Надо было уходить, надо было бежать, но как — никто не знал.
Несколько дней подряд Рябов парил в глиняном горшке хвою, поил настоем Семисадова, не торопясь, осторожно выводил его на волю, на мороз, скармливал ему все, что передавала Таисья. Семисадову полегчало.
Длинными ночами шепотом строили несбыточные планы побегов, потом задумывались: как подкоп делать, когда земля на аршин промерзла? Чем копать, когда инструмент на вечерней заре по счету принимают караульщики? А потом куда денешься, как минуешь стену верфи? Разве можно уйти незамеченным от воинских людей, охраняющих цареву верфь?
Еще одна забота кроме больного Семисадова, кроме Митеньки, была у Рябова: самоедин старичок Пайга. Как-то случилось, что самоедин, работая на постройке корабля, неловко протянул топор мастеру Николсу. Тот, не оглядываясь, поддал ногой стоящему на лестнице Пайге, старик потерял равновесие и нечаянно схватился за ногу мастера. Оба свалились вместе. Надзиратель Швибер прибежал на крик Николса, на его ругательства. Старый Пайга на четвереньках уползал в сторону, пряча голову, чтоб не убили по голове. На эту-то старую, лысеющую, в космах жидких волос голову едва не наступил кормщик, вынырнувший из-за бревен с досками на плечах.
Надзиратель уже искал взглядом, кого ожечь первым. Уже повели Николса делать припарки на поврежденную ногу. Уже кнут засвистел над старым Пайгой, чтобы первым ударом разрубить облезлую его меховую кацавейку, а вторым — сорвать кожу со старых ребер. Уже охнули корабельные трудники при виде начавшейся расправы. Но расправы не случилось. Рябов с грохотом швырнул доски под ноги Швиберу, распрямил могучие плечи, шагнул вперед, закрыв собою старика. И тотчас же почувствовал — не один, рядом прерывисто дышал еще человек, — кто, он не заметил.
— Не бей! — велел Рябов.
Надзиратель держал кнут за спиной, оттягивал удар. Да и кого ударить — Рябова или его соседа, что стоял, выставив вперед черную в кольцах бороду, жег надзирателя сатанинским взглядом?
Швибер еще оттянул кнут — чем сильнее оттянешь, тем круче будет удар.
— Тебе говорю — не бей! — повторил Рябов. — Кого бить хочешь? Дите малое? Что ему ведомо? Олешки да тундра! Сам же старик упал, сам побился, за что хлестать кнутом?
Швибер решил, что лучше кончать дело миром.
— Упал? — спросил он деловито.
— Первым и повалился! — подтвердил Рябов.
— Ты говоришь истинную правду?
Кормщик кивнул.
Швибер огляделся — не смеется ли кто-нибудь. Никто не смеялся. Тогда Швибер сказал:
— Я тебе благодарен, что ты помог мне избежать большой грех! Я тебе сильно благодарен. Наказать без вины — грех…
Толпа трудников угрюмо молчала.
Швибер повел плечом, замахнулся кнутом над головами:
— Работать! Ну! Пусть старик отдыхает сегодня, завтра и еще раз завтра. Впрочем, ему довольно два дня…
И Швибер ушел. Рябов повернулся к своему соседу, спросил:
— Чего замешался в дело? Убить он мог запросто кнутом своим.
— И тебя убить мог запросто! — ответил Молчан.
Рябов усмехнулся.
— Меня не больно-то убьет! Я вон каков уродился…
Молчан ответил просто:
— Ты хорош, да и я не слабенек. У меня жилы что железные. Спробуй — разогни…
И подставил согнутую в локте руку.
Рябов хотел разогнуть с ходу — не вышло. Пришлось повозиться, пока распрямил. Старый Пайга отполз в сторону, следил с интересом, как меряются силами Большой Иван и черный бородатый Молчан. С этого времени старый Пайга тенью ходил за Рябовым и даже спать перешел в ту избу, где спал кормщик. Здесь устроился у двери, где потягивало морозцем, — в самой избе ему было душно. Здесь ел свою строганинку (Рябов доставал старику сырое мясо — посылала Таисья, он строгал его и ел с ножа). Здесь пел свои песни, закрыв глаза и раскачиваясь, словно в нартах, или вдруг начинал рассказывать про майора Джеймса, как тот приехал и сделал великое разорение всему кочевью. Русские не понимали, но слушали внимательно, качали головами, обижались за старого Пайгу…