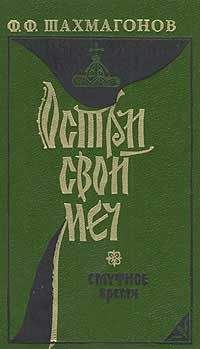Юрий Когинов - Татьянин день. Иван Шувалов
— Таким образом, выходит, что государыня как бы говорит народу: зрите, люди добрые, каким я хочу видеть своё царствование: роскоши, праздности и всяким порокам — бой, зато добродетели — покровительство.
— Твоё суждение верно. Но вот что, мой друг, ты должен иметь перво-наперво в виду: сию добродетель проводить в жизнь и тебе самому. Иначе — не ждать, что кто-то за тебя будет вершить доброе и вечное...
Шествие всё шло и шло Покровкою, затем вступало на Маросейку, далее — на Мясницкую и другие улицы Москвы.
А сбочь пляшущего и гогочущего маскарада, взбивая снежные дымки из-под копыт, туда-сюда метался всадник на лошади.
Сам — в расстёгнутом коротком полушубке, голова почему-то открыта, волосы — в разные стороны. То подлетит к скоморохам, что-то им скажет, то велит сбиться в плотные ряды слишком уж растянувшимся музыкантам, то громко одобрит герольдов, выкликивающих звонкие, поясняющие вирши к каждому шествию.
— Фёдор Волков, он самый! Да как же он так, нараспашку! — ахнул Шувалов. — Ах ты, горячая голова, так недалеко и до беды...
И — словно в воду глядел: пришла беда, да такая, что и не поправить ничем. Фёдор, только тогда, когда пропустил мимо себя последний хор, вдруг почувствовал озноб. А потом — жар. И когда добрался домой, весь горел.
Первый русский актёр и сам создатель нашего первого национального театра ушёл из жизни тридцати пяти лет от роду. Можно сказать, как это будет потом со многими нашими актёрами, — он умер на сцене. Во всяком случае, отдав всего себя театру.
Рядовой Державин
Зима в тот год словно взбесилась — выдалась холодной и вьюжной. Дни стояли короткие, сугробы — непролазные, в полпояса.
Ну а если к тому же ранним утром к разводу непременно надо поспеть в Хамовники, в казармы, с улицы, зовущейся Арбат, где он временно снимал угол у двоюродной тётки, — вовсе мука мученическая.
А служба рядового мушкатера? О ней нечего и говорить. Ставят в караулы в самых людных местах, и чтоб не шелохнулся — вдруг проедет царица. Однажды вот так поставили его в Немецкой слободе, позади дворца, в поле, да позабыли вовремя подменить. Так что чуть не околел от холода в своей будке, спасибо подоспевшей смене — спасла.
Но ещё хуже, чем стоять на часах, — исполнять должность посыльного. Вроде ты свободен и весь в движении — не замёрзнешь в тонкой шинельке. Даже зайти куда-нибудь можно, чтобы согреться. Однако те, кому ты принёс пакет, смотрят на тебя как на предмет неодушевлённый.
Так третьего дня было велено доставить пакет прапорщику третьей роты князю Козловскому. А у него — компания собралась, читают стихи. Да не просто какие ни попадя, а чей-то перевод Вольтеровой «Миропы».
Державин тотчас узнал, откуда это. И потому, вручив пакет, не спешил выйти. Стал у дверей и заслушался. Тогда, заметив всё ещё не покинувшего дом вестового, хозяин эдак презрительно, чуть только скосив глаза в сторону солдата, произнёс сквозь зубы:
— Поди, братец служивый, с Богом. Чего тебе попусту зевать? Ведь ты ничего всё равно не смыслишь...
И это — ему, обучавшемуся в Казанской гимназии, знавшему латынь и французский, а по-немецки писавшему и говорившему не хуже природного немца! Да ко всему прочему, знали бы сии господа офицеры, он и стихи умеет сам слагать — заслушаешься. Только как переспоришь судьбу, коли ещё с гимназии был ты записан в лейб-гвардии Преображенский полк и отправлен тянуть солдатскую лямку в столицу.
По прилежанию и успехам, явленным за годы учёбы в гимназии, не токмо в языках и словесности, но також в арифметике, геометрии и других науках, решено было определить его в Инженерный корпус: Но где-то напутали с бумагами, и оказался дворянин Гаврила Державин в солдатах.
Не он, кстати, первый и не он последний, что тянули солдатскую лямку, хотя и происходили из благородного сословия. Снимай где-нибудь в городе комнату и живи свободно, только появляясь в казарме в служебное время. И питайся — хочешь в кабаках, хочешь в ресторациях. Однако Державин хотя и значился дворянином, но был из самых что ни на есть захудалых. Отец, всю жизнь служивший в нижних офицерских должностях, после себя оставил сыну несколько разрозненных клочков земли, на которых крестьяне числились не сотнями, не десятками, а единицами. Мать — тоже из обедневшей семьи, к тому же была и полуграмотна. Но выполнила желание мужа — из последних сил тянулась, а наняла смышлёному и способному сыну учителей. Учился Гавриил и у немца, открывшего училище на немецкий манер. Вот оттуда, ещё с детских лет, у него отменное знание и, почитай, природный германский выговор.
Сей немецкий чуть ли не стал причиною, чтобы забрить его в голштинские войска. Этакий бравый солдат и говорит как чистый немец! Но не поддался на удочку — остался в казармах преображенцев: заплатить за квартиру было ему, бедному, нечем.
Впрочем, в казарме за пять рублей в месяц жил за перегородкою у одного капрала. А платил из того, что сам получал за письма, которые писал за солдат и солдаток.
Писание писем было двойным выигрышем. За них можно было и получить кое-какие гроши, и откупиться от тяжёлых работ, на которые гоняли солдатню. Был у него уговор: он сочиняет писульки солдатским жёнам, а мужья за него отбояриваются с лопатою и метлою.
Поначалу было нелегко найти общий язык с теми, за кого писал письма.
— Ну, кому, куда и о чём писать будем? — спрашивал обычно восемнадцатилетний, с открытым круглым лицом и светлыми голубыми глазами солдат какую-нибудь солдатскую жену. Жили ведь в казармах семьями — с детишками. А хотелось послать привет из столицы далёкой родне куда-нибудь в Рязанскую, Вологодскую или Орловскую губернюю, а заодно узнать, живы ли они там, у себя.
За перегородкою — кровать, грубо сколоченный столик, на котором — склянка с чернилами и блюдце с песком.
— Итак, значит, письмо надобно адресовать вашей свекрови?
— Ей-ей, родимый. Вот ты и сочини. А я к тебе завтрева приду, а теперича стирку я затеяла, аккурат чтобы к Благовещенью управиться.
— Но как я могу знать, о чём писать? Письмо ж не моей родне.
— И-и, батюшка, а мне-то где же знать? Вы грамоте обучены, так вам-то лучше всё известно. Дело дворянское, а я хоть и хвардейская, а всё же баба, деревенщина.
— Ах, ну как мне тебе втолковать, непонятливая ты женщина, что письмо сие — твоей родне, а не моей. Откуда же мне знать, о чём ты хочешь их расспросить, что узнать и что о себе, муже и детках рассказать желаешь?
— Что ж, мы не навязываемся, — вставала со скамейки солдатская жена и направлялась к двери. — Мой Савёл Егорыч за вас на канаве вчерась три часа отбыл. Да на прошлой неделе тоже — двор у полкового начальства мел... Все за вас же. Сами знаете.
— Я, голубушка, знаю. Я не корю, пойми ты меня, наконец! Я, напротив, разузнать у тебя намерен: что сказать-то на письме?
— Что написать? Да коли бы я знала сама... Мы люди неграмотные. А вы — барин, образованный. Нешто могем мы более вашего знать?..
Легче было иной раз самому взять в руки метлу иль лопату, чем биться как об стенку горох с бестолковым людом. Да что было поделать, если надобно было облегчить собственную солдатскую долю... А она при покойном государе Петре Третьем была несносно тяжела. Солдат одет в немыслимую жёлто-зелёную форму. Штиблеты жмут. Жмёт и под мышками, тесно в паху. Точно в колодках всё тело. И — беспрерывная муштра на плацу!
Потому так радостно поддались на чьи-то клики выйти в город и поддержать супругу деспота-императора, коя и сама устала от издевательств мужа. И переменить на троне, как говорили, этого изверга Петра на его наследника Павла.
Но и тут преображенцу Державину не повезло. Уже подхватилась, собралась вся рота, когда с ним случилось настоящее несчастье — украли деньги. Всё, что скопил, чтобы выбиться из нужды, похитил вор. И, как оказалось, слуга такого же молодого солдата из дворян. Державин, весь бледный, словно в воду опущенный, едва дождался, когда рота вернулась домой. Тотчас же во все концы бросились охотники искать вора. И нашли. На другой день Державин вместе со всеми с кликами восторга бежал к Зимнему дворцу, где наконец увидел императрицу. На белом коне, по прозвищу Бриллиант, она сидела в седле по-мужски, в сапогах со шпорами. Распущенные волосы, лишь схваченные бантом, падали из-под треуголки до лошадиной спины. Маленькая ручка в белой перчатке поднимала вверх узкую серебристую шпагу.
— Ур-ра! — закричал вместе с другими мушкатер Державин, подбрасывая в синеву неба свою шляпу и тяжёлое ружьё.
Всеобщее ликование как-то оборвалось сразу, когда по Петербургу пронеслась весть, что шестого июля отрёкшийся император скончался «обыкновенным и прежде часто случавшимся припадком геморроидическим».