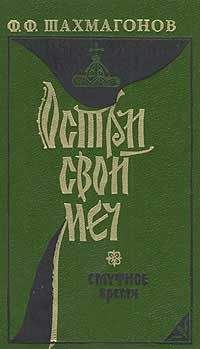Юрий Когинов - Татьянин день. Иван Шувалов
Иван Иванович, до которого из случайных разговоров с сестрой и зятем доходили подобные слухи, пропускал их мимо ушей. И никогда бы им всерьёз не поверил, кабы и к нему не заявились двое гвардейцев.
Обоих шапочно знал по столице — Пётр Хрущев да Семён Гурьев. Их-то и называл за столом князь Голицын коноводами.
— Простите, ваше превосходительство, ежели нарушили ваш покой, — сразу приступил к делу Хрущев. — Только покой покою рознь. Одно, если уединение связано с душевным равновесием, кое хотелось бы сберечь для любимых занятий, и другое — когда схима отшельника принята по случаю скорби и несогласия с тем, что свершается в миру.
— А что свершается, как вы выразились, в миру, дозвольте вас спросить? — предложив гостям присесть, осведомился Шувалов.
— Эх, Иван Иванович, мы-то к вам — с открытым сердцем, а вы... Ваша-то жизнь, как никакая другая, от всего происшедшего надвое переломилась. Что ж вам-то смиряться? Не впору ли под честные знамёна стать, а вернее — своё имя знаменем всех совестливых русских людей сделать?
Были оба чуть под хмельком, наверное, для куражу. Потому-то и взяли сразу быка за рога.
Иван Иванович усмехнулся:
— И много вас под честными знамёнами?
— Да вся гвардия! — согласно выпалили оба заговорщика.
— Двадцать восьмого июня я сам шёл с этою гвардиею к церкви Казанской Божией Матери. Если память мне не изменяет, и вас видал в той толпе. Что ж так теперь гвардия ни с того ни с сего оказалась по другую сторону? Может, и Орловы — с вами?
— Нет, любезный Иван Иванович, то — не с бухты-барахты, — наперебой продолжали гнуть своё офицеры. — Гвардия полагала: на троне — Павел, она же — регентша... А Орловы...
— Уж коли, господа, весь разговор останется между нами, в чём я не сомневаюсь, об Орловых я и сам вам скажу. Григорий о супружестве помышляет. Иначе — императором стать бы не прочь. Вот и всё его недовольство. А вам-то какой резон свои головы на плаху нести?
На секунду словно сникли, потом вскинулись — ястребы ястребами:
— Иоанна Антоновича посадим на трон!
— Будет, господа! То — басня. Видел я сего несчастного — тронулся он умом. И он — тож не знамя для вас.
— Так вы — за неё? Может, вы вместе с Орловыми? — Хрущев спросил напрямик: — Кого бы вы желали видеть на троне?
— Елизавету Петровну, — спокойно произнёс Шувалов. — Только её одну. Дожила бы до совершеннолетия великого князя Павла Петровича — и не было бы сей смуты в головах многих, как теперь.
— Так, выходит, вы не с нами? — Гости сникли, не помог и кураж.
— Я ныне — сам по себе. И схиму отшельника, как вы заметили, господа, я и впрямь принял для того, чтобы предаться в одиночестве тем трудам, в коих всегда находил удовольствие — посвятить себя наукам. То есть изучению всего того, что дарит человечеству добро и истинное счастье.
На том и простились. А в середине января — снова гость. Неужто опять из тех, коноводов? Хотел приказать камердинеру, чтобы сказал, что не примет, но в комнату уже влетел, словно снежный заряд, не кто иной, как Фёдор Волков.
— Ваше превосходительство, прошу не казнить, а миловать. К вам первому по дороге в университетскую типографию. Вот глядите: афишки надобно тиснуть, — говорил быстро, а глаза, как два угля, так и прожигали насквозь. — Маскарад затеваем, да такой, какого ещё на Москве испокон века никто не зрел!
— «Сего месяца января дня 30 и февраля дня 1 и 2, то есть в четверток, субботу и воскресенье, по улицам Большой Немецкой, по обеим Басманным, по Мясницкой и Покровке от 10 часов утра за полдни будет ездить большой маскарад, названный «Торжествующая Минерва», в котором объявится Гнусность пороков и Слава добродетели», — вслух прочитал Шувалов написанное на листке, что протянул ему актёр. — А и впрямь, словно в Венеции или Риме. Даром что на Москве — разгар зимы: знай наших! — воскликнул он. — Вот это действо так действо! Признайтесь, любезный Фёдор Григорьевич, о такой сцене, чтобы на главных улицах Москвы, вы и не мечтали.
— Какое, милейший Иван Иванович! Театр чтобы завесть — да. Так с вашею помощью и произошло. Теперь же театр — вся наша древняя Москва! Но вы дальше, дальше извольте прочесть: в афишке — вся программа.
— Да-да, с удовольствием. Ага, вот тут я остановился. «По возвращении оного маскарада к горам, начнут кататься и на сделанном на то театре представят народу разные игралища, пляски, комедии кукольные, фокус-покус и разные телодвижения, станут доставать деньги своим проворством; охотники бегаться на лошадях и прочее. Кто оное видеть желает, могут туда собраться и катиться с гор во всю неделю масленицы, с утра и до ночи, в маске или без маски, кто как хочет, всякого звания люди».
— Вот именно, любезный Иван Иванович, — весь народ, люди всякого звания... Вы правы, то и в мечтах мне не могло привидеться, чтобы на театре играл всяк, кто пожелает! Её императорское величество высочайше одобрила сию программу и повелела показать вам, куратору Московского университета, допрежь я в типографию оного отвезу.
— Конечно, передайте управляющему, чтобы в первую очередь, оставив другие заказы, — наказал Шувалов. — А вы что ж так налегке — без шубы, в одном кафтане? Студёно ведь на дворе. Я вот никак в норму не войду после простуды.
Вновь в карих глазах Фёдора вспыхнули задорные огоньки:
— Шуба с царского плеча ещё не пожалована. Довольно и того, что теперь споров не будет, быть ли актёру при шпаге, — в дворяне пожалован.
— А ведь сие — знаменательный акт, — серьёзно возразил Шувалов. — Музы — наравне со славою оружия, не так ли? Вот о такой поре я, признаться, мечтал: чтобы дворянство и иные почести в нашей державе давались за открытия и изобретения в науках, за служение музам. С Ломоносова, можно сказать, началось, теперь — вы. Примите мои сердечные поздравления.
— Принимаю. Тем более что у театра нашего вы предстателем явились. Полагаю, вы не оставите нас своим призрением... Кстати, в Оперном доме завтра в присутствии её императорского величества мы играем «Хорева», а через неделю ставим «Тамиру и Селима». Её величество велела передать вам своё приглашение. Между прочим, в сём спектакле по пиесе Михайлы Васильича Ломоносова кроме нас, ярославцев, занята и жемчужина театра при Московском университете — госпожа Троепольская Татьяна Михайловна. Первая актёрка из женского пола, а талант — от Бога.
— Передайте её величеству благодарность за приглашение. Надеюсь, что перемогусь и предстану пред её очи в театре, коли хворь не свалит снова в постелю. А вот на маскарад непременно хотелось бы посмотреть. Право, он же под окнами у меня пройдёт!
В первый же означенный в афишках день вся Москва высыпала на улицы. А по ним — на целых две версты шествие дударей, пересмешников, клоунов и паяцев... И — целое сонмище ряженых, долженствующих представлять задуманную аллегорию.
Сначала под звуки рожков, грохот барабанов и звон литавр показалась хромающая на костылях Правда. Глаз у сей фигуры подбит, сама она в отрепьях, затасканная по судам. На её горбе — тяжёлые, как кандалы, разломанные в тяжбах весы Фемиды. А за этой поруганной Правдою — на сытых и гладких конях, сами тож сытые, красномордые и довольные своею судьбою судьи-взяточники. То — обличение порока, коему теперь будет не место в новом царствовании.
А вот и другой порок выставлен на осмеяние — Пьянство. Свиньи, запряжённые в телегу, везут бочку. На ней — поклонник Бахуса с сине-красным носом.
Пронесли щит с надписью: «Действия злых сердец», который окружали скачущие музыканты со звериными масками: козлиными, верблюжьими, лисьими и волчьими рылами.
Шествовало Несогласие: забияки, борцы, кулачные бойцы тузили друг друга, несмотря на увещевания идущих сбочь герольдов прийти к миру, простить друг другу обиды.
На балконе, в шубе, Иван Иванович сидел на стуле, притопывая ногами, обутыми в валенки, в такт визгу свирелей, звуков рожков и дроби барабанов. Рядом с ним четырнадцатилетний князь Фёдор.
— Нравится?
— Много шуму. Сие непривычно, но больно живописно и красочно, — отвечал племянник.
— То, мой милый друг, действо со смыслом: с чем люди должны распроститься в своей жизни, а чему, напротив, поклоняться и следовать. Вот, взгляни, пожалуйста, на золотую карету, коя показалась вдали. Видишь, в ней Минерва в красном плаще. То богиня мудрости и воплощение высшей справедливости.
— Таким образом, выходит, что государыня как бы говорит народу: зрите, люди добрые, каким я хочу видеть своё царствование: роскоши, праздности и всяким порокам — бой, зато добродетели — покровительство.
— Твоё суждение верно. Но вот что, мой друг, ты должен иметь перво-наперво в виду: сию добродетель проводить в жизнь и тебе самому. Иначе — не ждать, что кто-то за тебя будет вершить доброе и вечное...