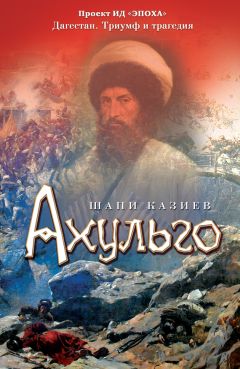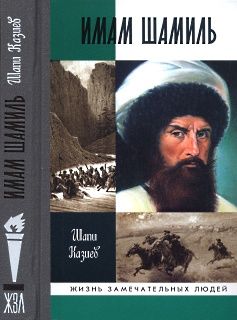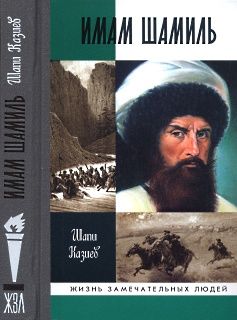Николай Черкашин - Тайны погибших кораблей (От Императрицы Марии до Курска)
Тем не менее в ПЭЖе шла напряженная мозговая работа. Несколько позже к ней подключился и флагманский механик одного из надводных соединений инженер-капитан 1-го ранга Бабенко, единственный, кто видел и кто смог теперь рассказать, что происходило в ПЭЖе.
Не моряки-«новороссийцы» виноваты в том, что линкор после отчаянной двух с половиной часовой борьбы с поступавшей водой все-таки опрокинулся. Действия экипажа по спасению корабля высокая Правительственная комиссия признала правильными и самоотверженными.
У каждой аварии, как принято теперь говорить, есть свои фамилия, имя и отчество. Всякий раз (за редким исключением), когда речь заходит о трагедии «Новороссийска», в этой печальной связи и всплывает имя вице-адмирала в отставке Виктора Александровича Пархоменко.
Я даже и не пытался разыскивать Пархоменко, полагая, что раз инфаркты и инсульты скосили в разные годы всех трех командиров «Новороссийска», старпома Хуршудова, помощника Сербулова, то нет в живых и человека много старше их годами.
И вдруг выяснилось, что он живет неподалеку от моего дома, в одном из московских островерхих небоскребов. Сколько раз я проходил мимо этого здания, сколько раз заглядывал в книжный магазин, расположенный в цокольном этаже. Впрочем, в Москве ли удивляться неожиданным соседствам?!
Я не очень надеялся на встречу. Захочет ли пожилой человек бередить больную память? Так просто отказаться от тягостной беседы под любым благовидным предлогом.
Вице-адмирал в отставке Пархоменко меня принял. Высокий сухощавый старик в спортивном костюме открыл дверь. У него было лицо человека, не улыбавшегося лет двадцать: хмурый, тяжелый взгляд.
Есть у человеческой памяти свой защитный механизм — он вытесняет из нее все мрачное, тягостное, страшное… Видимо, эта защитная механика сработала и у Пархоменко, переведя события октябрьской ночи пятьдесят пятого в глубины подкорки. Вольно или невольно, он, я думаю, не вспоминал о «Новороссийске» без нужды, без внешнего повода. А таких поводов с каждым годом находилось все меньше и меньше, поскольку заговор молчания вокруг погибшего линкора становился все глуше и глуше.
Когда я попросил его вспомнить о трагедии в севастопольской бухте, на лице его отразилась мучительная работа перенапряженной памяти. Поначалу он вспоминал очень общо. Потом стали проявляться детали, подробности, имена, погребенные под толщей времени в треть века.
Кое-что из рассказа Виктора Александровича приведено выше. Я спросил его, правда ли, что он не захотел дать задний ход, чтобы не повредить винты у Госпитальной стенки.
— Вздор! Снявши голову, по волосам не плачут. Какие там винты, если речь шла о том, быть линкору или не быть… Мы подтягивали его буксирами… Но, как доказали потом эксперты, даже если бы мы подтянули его к стенке, линкор все равно бы перевернулся.
— Почему вы были не на мостике, а на юте? Ведь место командира корабля по боевой тревоге — на ГКП.
— Командир сам определяет, где ему важнее быть в тот или иной момент боя. Я был на юте, так как там я находился в гуще событий, все доклады принимал не по телефону, а лично. Это очень важно — видеть лицо докладывающего. Иногда оно скажет больше, чем сам доклад.
— Что вы думаете о причинах взрыва?
— Думаю, что все-таки это была донная мина. Когда линкор становился на бочку, Хуршудов поздновато погасил инерцию, отдал оба якоря. Якоря, как плуги, пропахали грунт и затралили мину. От толчка пустился в ход остановившийся часовой механизм.
— Но комиссия не исключала и возможность диверсии…
— Да, не исключала… Но все же более вероятной была признана донная мина. Мне приходилось слышать о боевых пловцах, якобы проникших в севастопольскую бухту и подцепивших к борту «Новороссийска» взрывное устройство… По данным нашей разведки, никаких судов нечерноморских держав в Черном море на 29 октября не было. Никаких следов присутствия боевых пловцов в бухте не обнаружено. Разумеется, если бы в гавань проникли незамеченные диверсанты, я бы нес гораздо большую ответственность за гибель линкора. Но повторяю еще раз: все это не более чем версия, принять ее всерьез мне очень трудно. Человек не верит в то, во что ему не хочется верить… Не подумайте, что я выбираю наиболее удобную для себя версию. Все решала комиссия, в которой работали видные специалисты флота и крупные деятели науки: академики Юлий Александрович Шиманский, Михаил Александрович Лаврентьев… И последний аргумент. Сразу же после трагедии «Новороссийска» мы заново протралили всю Северную бухту. Было извлечено из ила еще несколько немецких ящичных мин, не подлежащих электромагнитному обнаружению. Контрольный взрыв показал, что сейсмические отметки аналогичны тем, что были зарегистрированы сейсмостанциями Ялты и Симферополя…
Председатель комиссии Малышев мне сказал:
— Итог ясен. Линкор затонул.
— Не затонул, а перевернулся, — поправил я его.
— Какая разница? — спросил он.
— Разница в скоротечности катастрофы.
— Зная конечный результат, как бы вы все же поступили?
— Я не мог знать конечного результата.
— В первую очередь вы должны были снять команду с линкора.
— Тогда бы мы не вели сейчас с вами эту приятную беседу.
Вот такой был диалог.
Пархоменко достал с полки «Корабельный устав ВМС СССР 1951 года» (тот самый, требования которого действовали и в 1955 году), прочитал:
— Статья 69-я гласит: «Во время аварии командир корабля обязан принять все меры к спасению корабля; только убедившись в невозможности его спасти, он приступает к спасению экипажа и ценного имущества».
Пархоменко снял еще один томик.
— После гибели «Новороссийска» редакцию этой статьи в Корабельном уставе ВМФ СССР от 1959 года несколько изменили: «Во время аварии командир обязан принять все меры к спасению корабля. В обстановке, угрожающей кораблю гибелью, командир корабля должен своевременно принять меры к организованному оставлению корабля личным составом».
Замечу еще вот что, — добавил Виктор Александрович, — русские моряки никогда не бросали свои корабли на произвол судьбы. Принято было бороться за живучесть до последнего. Броненосцы в Цусиме переворачивались вместе с подпалубными командами. Матросы прыгали в воду лишь тогда, когда корабль сам стремительно уходил в нее… Всегда стояли до конца. Это был обычай. Это был закон.
Я часто думаю: когда именно я должен был приказать оставить линкор? Легко сказать — своевременно. Но как узнать это время? Как «убедиться в невозможности» спасения корабля, если тебя уверяют, что спасение возможно, и сам ты в это веришь, и все в тебе кричит — нельзя бросать линкор в двух шагах от берега.
Передо мной не было такого выбора: или продолжение борьбы за корабль, или еще 400 трупов к тем 230, погибшим от взрыва. Аварийные работы в такой близости от берега, при таком спокойном море, при такой ничтожной глубине под килем не предвещали столь большого количества жертв. Худший вариант, к которому я был готов, который мы все ожидали, — заваливание линкора на левый борт. Конечно, при этом кто-то мог пострадать. Но это были бы единицы, а не сотни. Жертв было бы еще больше, если бы я не приказал не занятым на аварийных работах построиться на юте. Но даже это распоряжение вызвало разные толки. Тот же председатель комиссии сказал мне: «Сосредоточив столько людей на юте, вы способствовали потере остойчивости корабля». Не буду говорить о несоизмеримости массы линкора с весом людей, собранных на юте. Это очевидно. Но даже если бы такое влияние на остойчивость и в самом деле ощутилось, то только самое благоприятное: каре экипажа «откренивало» правый борт линкора.
Представьте себе такую вещь: на моем месте в ту ночь оказался бы иной адмирал, и он благополучно бы снял с корабля весь экипаж, хотя бы за десять минут до опрокидывания. Потом ему же, этому адмиралу, обязательно поставили бы в вину, что линкор опрокинулся именно потому, что был брошен экипажем на произвол судьбы. И этих десяти минут, мол, хватило бы для того, чтобы что-то перекрыть, затопить. Разве не так? Хорошо бы, если не так. Но адмирал бы пошел под суд, поверьте мне… Я не суда боялся, и если бы вопрос стоял так — либо Пархоменко пойдет под трибунал, либо все останутся живы, — я бы предпочел первое. Но не было на моих часах этой красной отметки, до которой я должен был успеть снять людей! Да и выбора такого не было.
Я вдруг понял, кого напоминает мне Пархоменко. Генерала Хлудова из булгаковского «Бега». Он даже внешне походил на того Хлудова, которого сыграл в фильме Дворжецкий: высокий, сухощавый; открытый лоб, большие, чуть навыкате глаза, жесткие, отвыкшие улыбаться губы… То же стойкое отражение вечной пасмури на душе.
Я не вправе разбирать действия и распоряжения комфлота в ту роковую ночь — это прерогатива специалистов, — но в моих блокнотах осталось множество суждений и оценок коллег Пархоменко — офицеров и адмиралов довольно высоких рангов. Они не все единодушны, и, работая над этой главой, я вдруг обнаружил, что если придать моим разрозненным записям некую систему, то выстраивается своеобразный диалог. Аргументы тех, кто полагает Пархоменко виновным за тяжкие последствия взрыва (опрокидывание линкора, массовая гибель людей), я объединил под условным именем «Обвинитель». Соответствующим образом возник и «Защитник». Думаю, что эта полемика поможет очертить границу личной вины вице-адмирала.