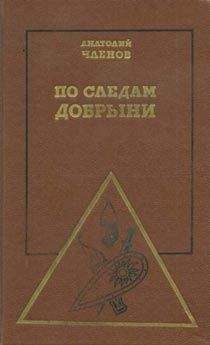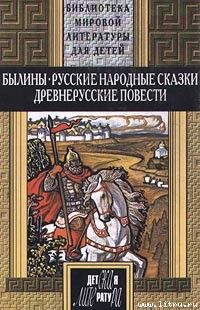Михаил Шишкин - Взятие Измаила
Из тех, кто тогда часто приходил ко мне на Пушку, один стал политиком, его часто теперь показывают по телевизору. У него есть дочка. Перед какими-то очередными выборами его девочка исчезла, а потом ее подбросили, живую, но отрезали два пальца. Он отвез ее за границу, в закрытую школу, где ее теперь хорошо охраняют. А сам опять в телевизор. Мы давно с ним не разговаривали.
И с другим другом не виделся тысячу лет, хотя и предполагаю, что у него тоже все хорошо. Когда-то, когда я работал в «Ровеснике», его родители сидели в отказниках, а он поступил в геодезический — единственный тогда, кажется, вуз в Москве, куда принимали без расовых предрассудков. Он занимался фотографией, и я брал его с собой в командировки внештатным фотокором. Помню, в Чернобыле кто-то высоколобый в белом халате, хлопая по стенке реактора, уверял нас, что за мирным атомом — будущее.
Когда я ушел из журнала и пошел в школу, мой друг тоже сказал мне, что я дурак. Мы на несколько лет с ним расстались, потом — вовсю шла перестройка — случайно встретились. Он затащил меня к себе в гости. К этому времени мой друг уже успел открыть несколько фирм, торгующих автомобильными противоугонными устройствами, купил несколько однокомнатных квартир в новостройках Москвы и как раз занимался тогда тем, что обменивал их на большую квартиру в центре. Домой он отвез меня на «Чайке», самой что ни на есть генеральской, сверкающей.
Я спросил:
— Леня, а «Чайка»-то зачем?
Он засмеялся, пожал плечами:
— Считай, что это просто вальс-каприз!
Хорошо, Леня, так и будем считать.
Еще в квартиру на Пушку часто заходила одна девушка с косой, медной на солнце. Она как-то по телефону сказала, чтобы я подождал ее полчаса, и исчезла на много лет, а я все ждал, а потом перестал ждать, и тут она снова появилась, позвонила уже на Госпитальный вал — я был женат, и вот-вот должен был родиться Олежка. Трубку взяла Света и сказала:
— Тебя.
Я спросил:
— Кто?
— Не знаю, какая-то старуха.
Это была она, я сразу ее узнал, хотя голос, действительно, изменился. Она сказала, что ждет меня на Семеновской в сквере напротив метро и что это очень важно.
Света спросила:
— Куда ты?
Я бросил:
— Потом все объясню.
Я не стал ждать трамвая и пошел пешком через мост над железнодорожными путями и парк, где раньше было Семеновское кладбище. Сюда я приходил с моим сыном: мы смотрели с моста на поезда и отыскивали в парке остатки могильных решеток, вросших в кору деревьев.
Я шел и вспоминал, как тогда, в Опалихе, сломался велосипед, и мне пришлось тащить его чуть ли не на себе, а она, эта девушка, которая ждала меня теперь у метро, укатила на моем вперед и остановилась на пригорке, закрыв юбкой грозу.
Я даже не сразу понял, что это она, потому что за несколько лет до этого звонка я знал кого-то другого, а теперь на скамейке сидела какая-то помойная старуха, закутанная в синий рабочий халат, заляпанный краской, в разорванных кроссовках, в засаленной шапке-ушанке. У нее не было зубов. Руки тряслись. Волосы были совсем не рыжие, а фиолетовые от неона уличного фонаря. Она стала говорить, что обратилась ко мне только потому, что ей некого больше просить о помощи, что она попала в очень трудное положение и ей нужны сейчас, чтобы спасти свою жизнь и жизнь ее дочки — она протягивала мне измятую, разорванную и снова склеенную скочем фотографию, с которой на меня смотрел карапуз с зайкой в обнимку — деньги, много денег, и она просит, умоляет меня достать их для нее, занять у кого-нибудь, если у меня нет.
Ничего больше про это рассказывать не хочу.
Лучше, Франческа, про Олежку.
Хочется вспомнить что-нибудь забавное. Наверно, я тебе это еще не рассказывал. Помню октябрь девяносто третьего. То самое, тоже третье, кажется, октября. Мы с ребенком пошли гулять вниз к Яузе на стадион — был роскошный солнечный день. Возвращаемся, он сел к телевизору смотреть своих черепашек-нинзя. Мы на кухне — вдруг прибегает весь в слезах. Передачи прервали. Объявили, что коммунисты штурмуют телецентр.
Кое-как успокоил Олежку, дал ему карандаши, посадил рисовать. Через какое-то время подхожу, смотрю, как он увлекся, высунул язык, бормочет что-то, азартно водит карандашами по бумаге так, что грифель крошится.
— Что это? — спрашиваю.
Протягивает мне лист — что-то непонятное, какая-то паучья свадьба.
— Олежка, что это?
— Это, — отвечает, — черепашки-нинзя коммунистов бьют.
Карандашами он отстаивал свой мир.
Как и все его друзья, он увлекался всякой мультдрянью, но в последнее время с ним что-то вдруг произошло. Я подарил ему красивую детскую книжку о пирамидах — и ребенок заразился, стал читать о Древнем Египте все, что мог найти, даже копался во взрослой всемирной истории.
Один раз, когда я его укладывал спать, конечно, не без скандала, и целовал на ночь в лоб, он пробурчал:
— Вот засну здесь с вами, а проснусь в Египте.
Все случилось в понедельник, а накануне, в выходной, выпал снег, мягкий, липкий, и мы с Олежкой пошли строить снежную бабу во дворе. Я даже захватил с собой морковку — решил хоть раз в жизни сделать снежную бабу по-человечески, с носом-морковкой. Стали катать комки, а Олежка говорит:
— Давай слепим сфинкса!
Ради Бога, сфинкса так сфинкса.
С туловищем и лапами еще как-то вышло, а с головой пришлось помучиться, чтобы хоть немножко было похоже. Из Олежки скульптор никудышный, а из меня тем более. Видя, что женское лицо у нас, как ни старайся, не получится, я достал из кармана морковку и воткнул ее вместо носа.
— Пусть, Олежка, у нас сфинкс будет с морковкой! Смотри, так даже смешнее.
Но он обиделся, вырвал ее и отшвырнул в сугроб.
В общем, что-то отдаленно напоминающее сфинкса у нас в конце концов получилось. Давно пора было домой, а он ни в какую — боялся, что мальчишки сломают. Еле его увел.
А на следующее утро мы, как обычно, вместе пошли в школу и он, когда шли через двор к трамвайной остановке, первым делом побежал к нашему сфинксу. Разумеется, там была уже просто растоптанная куча. Смотрю, у него глаза мокрые, насупился, чуть не плачет. Идем, и я его успокаиваю, мол, подумаешь, это же всего-навсего снег. Он взглянул на меня зло, обиженно.
В тот день Олежку сбила машина.
По понедельникам его забирала Света и отвозила в бассейн. Это произошло на углу Первомайской, прямо у метро. Я так до сих пор и не знаю толком, как все это произошло. Врачи сказали, что самый страшный удар был головой об асфальт. Водитель того джипа не остановился, и его так и не нашли. А может, и не очень искали — у них и так дел полно. А может, и нашли, да решили не связываться.
Я ничего у Светы ни тогда, ни потом не спрашивал. Я сказал себе, что не вправе ни в чем ее винить. Я ей простил, но она простить себе не могла.
Света все время сидела дома, никого не хотела видеть, ни с кем разговаривать. Дважды она пыталась покончить с собой. В первый раз резала вены. Я пришел из школы в тот день пораньше, заболел один частный ученик, и вижу — кровь на ковре студнем. Света, совершенно бледная, с рукой, обвернутой полотенцем, виновато улыбается:
— Я еще ведь подумала, что ковер надо закатать.
Во второй раз прибежали соседи, обеспокоенные запахом газа, — мы оставляли у них ключ.
Света иногда повторяла где-то вычитанную фразу:
— Если не умеешь быть, надо не быть.
Соседи стали писать письма во все места, чтобы ее забрали: боялись, что она их всех взорвет.
Я положил Свету в больницу на Варшавке, там был знакомый врач.
Приносил ей передачи — разворовывали.
В больнице Света, как ни странно, ожила — так, наверно, подействовала на нее обстановка.
Мы сидели под засохшей пальмой на колченогой скамье, и Света рассказывала мне о своих больничных товарках, проводила, по ее выражению, экскурсию. У одной голова была, как котел, коровий язык свисал до подбородка
— акромегалия. Другая ходила, как медведь в клетке, вскидывая каждый раз головой на повороте. Света подружилась там с одной дамой в толстых очках, которая выходила с книжкой посидеть под пальмой в синем больничном халате — у нее был прогрессивный паралич. Света еще мне тогда сказала:
— Хорошо этой, еще два-три года — и все, а той, медведице, еще десятки лет так ходить, мотать башкой.
В больнице под простыни были подложены оранжевые клеенки. Подушки, постельное белье все было в пятнах: бурых, зеленых, желтых. И всюду запах застоявшегося пота, мочи, немытости.
Потом Свете стало лучше. И мы развелись.
Перед отъездом я поехал к сыну на кладбище — проститься. Мало ли что. Он похоронен на Николо-архангельском.
Хорошо помню тот день — сентябрь, а выпал снег, вот как в Грименце, но только холодно.
Хожу между плотными рядами стандартных плит. Могилки все — по размерам