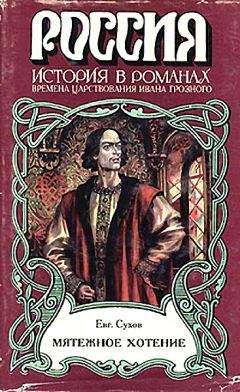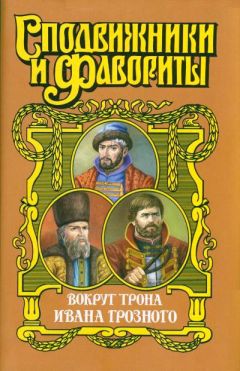Всеволод Иванов - Черные люди
Достали и Босые свои сулейки, выпили, закусили, помянули усопших — совсем стало легко на душе.
«Дойдет и наш черед, а цока делай свое дело — работай!»— вот что думал московский люд в этот радостный день на кладбище.
Вдруг от входа раздались крики, конский топ: побежали люди, метались среди могил, опрокидывали коробья да горшки; пение да музыка прекратились; пробежал мимо один молодец, пряча домру под полу кафтана, за ним гнались патриаршьи ярыжки в смурых кафтанах, с палками в руках.
Павел Васильевич со всеми привстали на колени, смотрели — словно бой шел по всему кладбищу.
— Стой! — кричали ярыжные. — Стой! Патриарх указал, чтоб в проклятые гудки да дудки не гудели да не дудели бы…
— Эй, вы кто? — крикнул Павел Васильич. — Пошто народ пугаете?
— Ништо! — отозвался один, остановясь, отирая с лица пот рукавом. — Нет ли кваску, милостивцы?
— А вот он! — сказала Фетинья Марковна, подняла туес с квасом. — Попей, Христа ради. Уморился?
— Ага! — отвечал тот, высвободив с улыбкой голову из посудины, утирая волосатый рот. — Упарились, знамо! Служба!
— Да кто ты таков? Что делаете?
— Мы-то? Патриаршие ярыжки! Сегодня по всем кладбищам бегаем, народ велел патриарх наставлять во благочинии. Молиться патриарх велел, а в бубны бить да медведям плясать нечего… Ну вот бесовскую забаву ломаем да бьем!
— Сие есть грех! — раздался тонкий, козлиный голос, и курносый монашек в скудной бороденке, в скуфейке предстал, подбежал к кургану. — Дьявольское наважденье! — поднял он глаза и правую руку кверху. — Указал святейший патриарх тех людей, что песни поют или с бубнами дуруют, хватать и на патриарший двор тащить. Для спасенья душ их…
— А что это у тебя, отец, с глазом-то? — прервал Ульяш.
— Так, один православный съездил. Не хочет он, окаянная сила, спасенья души. Ну, взяли. На цепи посидит… Смирится… Простите, Христа ради!
И, поклонившись, вдруг побежал, крича ярыжному:
— Афанасий, забегай справа! И там, под сосной, опять с гудками сидят. Хвата-ай! Держи-и!
Павел Васильевич сдвинул брови:
— Чего делают, а?
Другая, ох, совсем другая стала Москва в этот приезд Павла Васильича. Не узнать! Люди другие! И мало людей! Чума и война уложили много народу. На дворе боярина Морозова Бориса Иваныча жило челяди триста шестьдесят два, осталось девятнадцать человек, а у князя Трубецкого Алексея Никитыча из двухсот семидесяти восьми осталось всего восемь человек, оставшиеся в живых многие разбежались по городам и уездам. Почитай, и работать некому — кто помер, кто в бегах, кто воюет.
Да и сама работа стала другой. Старой, веселой работы больше не было. Работали на войну — обувь, одежу, всякое железное дело, мололи порох. Заработки стали скудны, платили за серебро медью, а налоги, пошлины, запросные деньги, пятую десятую деньгу брали серебром. Серебро дорожало, кто мог — серебряные деньги припрятывал, медных денег вместо серебряных били все больше и на Денежном дворе, да били и сами промышленные люди — медники, серебряники — и пускали свою медь по серебряной цене.
Павел Васильич вернулся с кладбища домой только к вечеру. Избу бабы уже вымыли, натопили, разыскали за божницей свечу, затеплили перед иконами — и опять стало легче, снова зажглась жизнь. Что ж делать, война! Раззор! Подошли соседи: дьяк из Сибирского приказу Патоличев Софрон Фролыч, большой мужик, голос как из бочки, борода русая, Минкин Михайло Семеныч, торговый человек, да еще Варварушка-странница тоже подошла — бродила она по Москве, встретил ее Павел Васильич у своих ворот, зазвал.
Чернявая, сухая, с ясными глазами, легкая на ногу, Варварушка знала все, о чем знала, о чем говорила Москва.
— Неправда ходит по земле нашей, — говорила Варварушка, подымая руку, на которой висела лестовка. — Жестоки правители наши, нет в них духа сокрушенного. — Где царь? Зачем Москву свою, землю свою оставил? Чужие земли воюет! Али у самого земли мало? На бояр нас кинул. А бояре? О себе радеют, о своих палатах. Патриарх в чуму из Москвы бегал, народ свой бросал. А нешто пастырь может паству оставлять? Как тут мору-то не быть? Не любит нас господь, потому и наказует!
Павел Васильич молчал, постукивая пальцами по столешнице: была в словах странницы какая-то смутная правда. «Недоволен народ, что правды нет, ищет он, требует свою правду. Война угнетала, разоряла народ. У нас-то с войной не как у шведов или у других немцев. У тех идет в ратные люди народу не много, идут своей волей, идут, чтобы грабить, наживать. Яган Брун ономнясь его отцу, Василию Васильичу, говорил же: «Война — барыши хороши». Хоть один голову потеряет, так другой наживет. Да иноземные воины вооружены ладно, все с огненным боем, в железо кованы, а мы идем с рогатинами, да с ослопами, да с топорами. У нас сто лягут, там — один… Там одни бойцы воюют, у нас весь народ подымается. Мы всем миром валим, всей землей подымаемся и всем миром пропадаем. Барыш одни разве бояре видят. Войны у нас народ не любит».
Варварушка, обведя пальчиком под платком, высвободив подбородок, облизнула языком бледные губы и говорила.
— Кто всему делу теперь виной? — спрашивала она. — Никон-патриарх! В чуму бегал, а теперь за царя остался. К народу немилостив. Сам с этим, черным, прости господи, с мурином, не расстается.
— Что еще за мурин? — спросил Патоличев.
— Да с патриархом-то греческим. С арапом. Как тот скажет, так все и делает. На Святой неделе кабаки закрыть велел — это ж что такое? Народу и не выпей! На Святой! А сам, сказывают, пьет. Земские ярыжные пьяных волочут да бьют, а Великим постом Никон с мурином всех русских святых прокляли. Двуперстием-де крестились! Против всех один пошел!
— Война! — сказал Павел Васильевич. — Война!
— То-то и есть — война! Царь на войне чужих бьет, а патриарх дома своих! — говорила Варварушка. — Как, сказывают, Смоленск-то брали, вся рать как есть видела — на небе по облакам скачет на коне царь Алексей, а за ним архангел Михаил. С мечо-ом! Все, все видели! Вот страсть!
— А Никона с ними не было? — иронически поднял одну бровь Софрон Фролыч. — Ишь, пустосвяты! Ты бы у калек, у раненых спросила бы, что они-то видели.
— Не это страшно, — вмешался Босой. — Страшно, что царь к войне зовет и тем милость свою теряет. По чужим чужого наберется!
— Так, батюшка! Истинно так! — закивала Варварушка. — Хочет он в польские короли. Мало ему своей земли.
— А Никон?
— А Никон — пуще царя. Хочет он, Никон, быть римской папой. Уж, сказывают, всю одежу себе справил.
— Один на небо, другой в чужие короли лезет.
— А что, скажи на милость, с нами, с мужиками, станет? Ты царь — ну и помогай народу. А то ведь всю землю мы разорим… — говорил, разводя руками, Софрон Фролыч.
В те давние годы газет в Московской земле не бывало, однако о происходящем люди имели ясное представление. Вести с разных сторон ловились, отбирались, отсеивались, проверялись одна с другой на засечку и наконец, уложенные в простые, доходчивые, связанные одна с другой «новины», разбегались по всей земле. Вестовщики того времени отлично умели понять, умели характеризовать бояр и начальных людей, следили за их действиями, смеялись над греками-патриархами. О том, как под турками жили греческие патриархи в своей Турещине, рассказывал не стесняясь вернувшийся с востока старец Арсений Суханов. Патриаршие престолы брались на откуп, за взятки, патриархи враждовали друг с другом. Бывало, что в Константинополе разом сидело по три патриарха! Как раз в это время патриарха Константинопольского Парфения II несколько раз сгоняли с престола, ставили снова, наконец согнали, задушили, бросили в море. И все это делал тот самый патриарх Иерусалимский Паисий, что был в Москве и поддерживал Никона!
Все, все как есть знала Варварушка! Знала и то, как охотно кумились да похлебствовали московские бояре с польскими да литовскими панами. Приезжали с войны польской, а сами щеголяли в польской одеже. И еще рассказывала почуднее:
— Сказывают, у боярина у Ордын-Нащокина Афанасья-то Лаврентьевича сынишко, Воином зовут, с пути сбился: «Убегу, все равно убегу к ляхам! Там лучше, а то здесь у нас очень уж темен народ. Там, говорит, светлей, что ли!» Ей-бо!
А то намедни еще что было! С князем-то Шелешпанским! Так слушайте! — шептала и шептала старица Варварушка. — Пришел намедни к митрополиту Сарскому да Подонскому Питириму человек некий в монашеской одеже, в клобуке. А митрополит его и узнай. «Князь Шелешпанский? Абрам Васильич? — спрашивает. — Ты что ж, княже, постригся? Или ангельский чин принял? Кто ж тебя постриг?» А князь-от и говорит: «Не хочу я, говорит, владыка, больше воевать, вот оно что. А купил я, говорит, все черное платье да клобук в Манатейном ряду. Ушел, говорит, я с одним черным попом в поле за Земляной вал, и он, говорит, меня там, во ржи, и постриг… И всего за один рубль серебра. Нарек он меня Андреем».