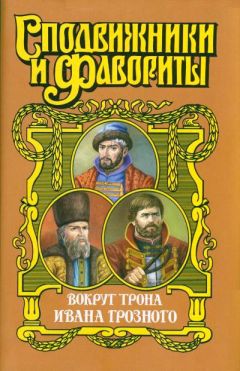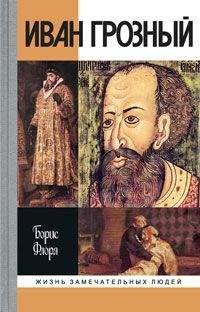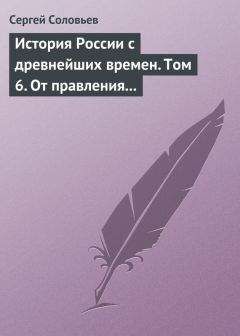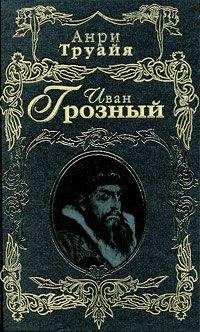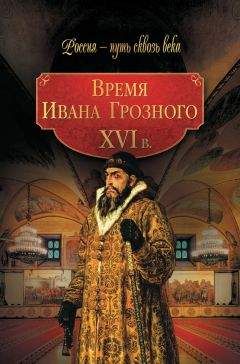Валерий Полуйко - Лета 7071
Иван сдернул с полки тяжелую книгу, отстегнул застежки… Федоров подался к нему, торопливо проговорил;
— Соблаговоли, государь!..
Иван резко обернулся, грубо перебил:
— Ежели в монастырь намерился — не пущу!
— …печатное дело возложи на меня. Довлеть перенял я от Маруши Нефедьева, да и Петр понаторел изрядно. Вдвоем отменно справимся.
— Доброе умышление… Нежели страсть на пустое и вредное изжигать, послужи паче отечеству полезным делом. Авось потомки помянут тебя добрым словом за твое старание.
3Щелкалов выехал на Никольскую улицу — узкую, засугробленную, малолюдную… Боярских дворов на ней было не меньше, чем в Кремле, — оттого простолюд и обходил ее стороной, страшась нарваться на какую-нибудь беду.
Впереди виднелся Кремль. Через него, как через запруду, перехлестывались тяжелые облака, проносились над подолом и укатывались за Яузу, за Соколиные боры.
Завиднелись торговые ряды… Справа от них, саженях в двухстах от Воскресенского моста, на не застроенном еще пустыре, где летом бараши 130 раскидывают для сушки царские шатры, уже поднялся высокий, дочерна просмоленный сруб печатни. Наверху, меж заснеженных стропил, сновали кровельщики, набивая на поперечные плахи тонкую кровельную дранку, — печники выводили трубу… Внутри сруба приглушенно постукивали топоры, а рядом со срубом, на высоких козлах, пильщики сноровисто распускали на доски и плахи промерзшие, звенящие под пилой бревна.
Царь, уходя в поход на Полоцк, повелел к своему возвращению закончить печатню. Суровая зима мешала работе. К тому же Сава с артельщиками больше в кабаке орудовал, чем на стройке. Однако мало-помалу сруб таки выгнали. Принялись было и за остальное, да здыбался Сава с мясницкими — целый месяц приходили в себя плотницкие после того здыба. Вот-вот только и пошла у них работа в охотцу, и мороз отпустил как раз — теперь уже не ленились, наверстывали упущенное…
Щелкалов завернул к печатне. С дьяконом Федоровым он давно был в разладе, с той поры еще, когда тот вместе с Марушей Нефедьевым в приказах пороги обивал. Но после того как дьякон был приставлен к царевичу, Щелкалов попридавил в себе неприязнь к нему. Стал даже заискивать, радетелем о его деле прикидываться и доброхотом. Никогда не упускал случая совет какой-нибудь подать, чаще всего пустой, или просто повертеться перед дьяконом, поговорить с ним, однако всегда с достоинством и с этаким добродушным и будто бы нечаянным, но на самом деле намеренно выказываемым превосходством над ним.
Щелкалов поехал напрямик, мимо пильщиков. Те будто и не заметили его, работу не бросили, не поклонились… Только когда он уже преминул их, кто-то из самых отчаянных, будто в приговорку, дурашливо отпустил:
— Стук-бряк, вот те — дьяк!
Щелкалов обернулся, поискал глазами сказавшего — не нашел. Все враз усердно налегли на пилы, лица у всех напряглись — ни смешинки, ни потаенного позыру…
Удержался Щелкалов, стерпел… Для острастки только пощурился по сторонам, поиграл плетью и поехал к крыльцу.
На крыльце, в дверном прорубе, Сава прилаживал толстую дубовую притолоку. То и дело отпрыгивал от нее, приседал, проверяя глазом, не закосилась ли… Другой артельщик, подклинив притолоку топором, стоял на коленях и истомленно бубнил:
— Будя ужо… Савка! Перепрямишь…
Сава молчал, прыгал, приседал… Тут же стоял и сам дьякон — с железными клиньями в руках, видать, собирался помогать Саве крепить притолоку.
Щелкалов подъехал, сдержанно бросил:
— Бог в помощь!
— На добром слове… — буркнул Сава.
— Здравствуй, Василь Яковлевич, — отговорил не очень приветливо и дьякон.
Какой-то мальчонка чуть поодаль от крыльца прилеплял снежной бабе голову. На него Щелкалов не обратил внимания: повернул к нему задом своего жеребца, принялся осматривать сруб.
— Хоромы-ста! — прицокнул Щелкалов. — Любой боярин позавидует. И пошто добротно так? — спросил он с притворным удивлением.
— Не на год дело затевается, — спокойно ответил Федоров.
— Затеялось бы… — вздохнул Щелкалов и отвел глаза. — Злопыхи уж змей под колоды сажают.
— Что злопыхам до нашего дела?! Ни дорогу поперек, ни кус изо рта!..
— Кому и кус изо рта! Писцы по приказам ропщут: куда поденемся? Да писцы — что?!. — Щелкалов чуть притаил голос, чтоб слышал один только Федоров: — Молва идет — антихристово дело будто сие… Подбили будто царя новгородцы, да и ты с ними, — в пакость будто московитам. Спалят! — Он еще что-то хотел сказать, даже склонился с седла, чтоб приблизиться к Федорову, но тут его остановил сердитый мальчишечий голосок:
— Эй, дьяк!
Щелкалов оглянулся, обомлел.
— Пошто не отдал мне поклон? Али холоп я твой?
Щелкалов сполз с коня, сунулся коленями в снег — неуклюже, беспомощно, как только что народившийся теленок.
— Прости, царевич!.. Не признал тебя, — молитвенно прошептал он. Изжелта-белое лицо его заострилось, как у мертвеца, на скулах вздыбился серый пушок — озноб прохватил дьяка.
Царевич нахмурился — не по-детски сурово и властно, — крадучись приблизился к дьяку и вдруг засмеялся — довольно и весело. Щелкалов тоже хихикнул — с натугой, боязливо. Царевич схватил его за бороду, стал дергать и приговаривать:
— Милую!.. Милую!.. Милую!..
У дьяка от боли выступили слезы. Федоров сошел с крыльца, остановил царевича, с укоризной сказал ему:
— Постыдно и грешно, царевич! Бог велит старших уважать.
— Он холоп мне! — капризно топнул ногой царевич. — Ты — також холоп! Не хочу тебя слушать! Подать ему топор, — указал он властно на Щелкалова, все еще стоявшего на коленях в тревожном и жалком оцепенении.
Сава торопливо поднес дьяку свой топор.
— Ступай за мной! — позвал его царевич и повел к снежной бабе. Щелкалов покорно пошел за ним следом, держа перед грудью, как что-то священное, Савин топор.
Перестали визжать пилы, унялась стукотня на крыше… Артельщик, державший прилаженную Савой притолоку, бросил ее и выполз на самые ступени крыльца.
Царевич подвел Щелкалова к снежной бабе, ткнул пальцем в ее безглазую голову и злобно сказал:
— Се враг наш — боярин Горбатый!
Щелкалов попробовал улыбнуться, но царевич пронзительно крикнул:
— Руби ему голову! Руби! Руби!
Щелкалов неуклюже, от живота, мотнул топором и снес снежную голову.
Царевич радостно завизжал, запрыгал, принялся растаптывать разлетевшиеся комья.
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ
Москва ждала возвращения царя. Долго жила она в безвестии, томилась, роптала, взбудораживаемая нелепыми и злыми слухами, веря им тем больше, чем меньше в них было правды. Проскачет через Китай-город к Кремлю крупным наметом всадник, а по Москве уж пойдет: «Беда!..» И начинают приплетаться к этой ниточке другие нити, и столько приплетется, такой клубок намотается, что даже самые спокойные и разумные не выдерживают, идут на торг, а на торгу всегда имеются охотники пошуметь, подурить, поерепениться — глядишь, и прет уже толпа к Никольской или Фроловской стрельнице… Соберется тысяча-другая — уйми-ка их!
Бояре, оставленные царем в Москве «для градского бережения», уж-уж настрадались в эту зиму, не зная, как успокоить чернь. Мстиславский, умевший говорить с людом и не раз усмирявший его, — и тот перестал выходить за ворота, говорил со стрельницы, потому что с каждым разом толпа становилась все злобней, все угрозливей, все неуемней.
Поначалу собирались, чтоб узнать какую-нибудь весть о царе, потом стали покрикивать: «Куда царя подели?» А дальше и вовсе страшное понеслось: «Разбивай богатинные анбары! Доставай корм!»
Нынешняя зима была трудная, полуголодная: летний недород да большие поборы на войну заставили многих повыскрести все сусеки в своих закромах, вот и нацеливала чернь свои голодные глаза на боярские амбары.
Пришли на Москву вести о «голодном разбое тяглых людей» из других мест — из Обонежской пятины 131 с Пошехонья, где поселяне разграбляли монастыри и даже убивали игуменов. В Пошехонье был убит Адриан, основатель Адриановой пустыни… Губные старосты доносили из Пошехонья, что ими учинено дознание тому разбою и пойман зачинщик — Ивашка Матренин, который в оковах отправлен в Москву для боярского суда. А в приписке к донесению старосты сетовали на то, что «царь и великий князь велел имати с сох по двенадцати рублев, и оттого христьянам тягота настала великая».
Бояре сидели в Кремле, как в осаде, и ждали голодного бунта. Митрополит Макарий хворал… Он-то уж смог бы урезонить смутьянов, но Макарий хворал, хворал еще с осени, и с каждым месяцем все тяжче и тяжче.
Никогда еще Москва не оставалась так беспризорна — ни царя над ней, ни митрополита!