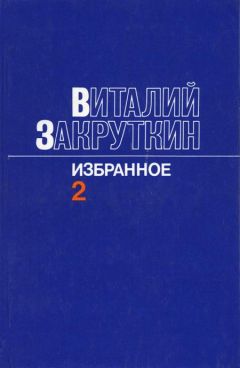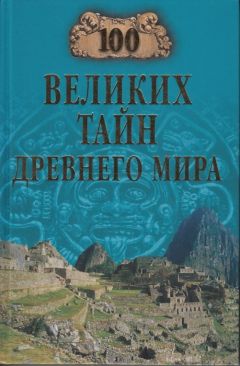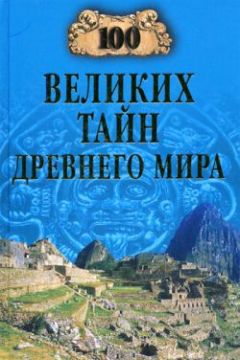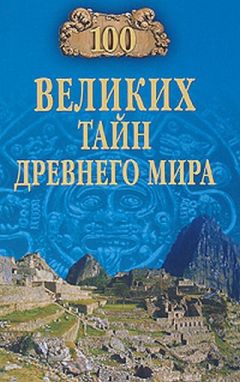Петр Сухонин - На рубеже столетий
Народ с обеих сторон луга ревел от восторга, любуясь русской потехой, о которой слышали они с детства в преданиях о Полкане-богатыре, но которой не видали никогда и никогда не увидали бы, если бы им не показал ее граф Алексей Григорьевич Орлов.
Все готов был простить народ графу Алексею Григорьевичу за его русскую удаль, истинно молодецкую. Но не такова судьба, не такова справедливость. Они не прощают. В ту минуту, как граф готов был всадить копье в пасть зверя, у него вдруг страшно защемило, затосковало сердце. "За что его убивать, — подумал он, — что он мне сделал? А что она сделала? Дала несколько минут счастья, какого другой раз я не испытывал!"
Раздумье это могло бы окончиться катастрофой, если бы сам медведь не наскочил на копье и не полез по нему к лошади. Он уже близко, еще секунда, и он схватит загривок его Летуна, а там и всадник будет в его лапах.
Тут Орлов опомнился и выстрелил в пасть из пистолета. Медведь упал, и Летуну пришлось перескочить уже его труп, среди криков, хлопанья и восторженного ликования смотрящего народа. Орлов и забыл совсем о палице, которую велел было повесить около седла, чтобы окончить единоборство холодным оружием, не прибегая к пистолету; чем бы, разумеется, потешил народ еще более, чем теперь. Но ему было не до палицы.
Сердце щемило, щемило, жгло, будто он ждал чего-то для себя страшного, чего-то невероятного, и он сошел с коня к своим ликующим и поздравляющим гостям будто опьяненный…
Не успели гости окончить своего послеобеденного пира в честь торжествующего хозяина, как докладывают: курьер из Петербурга.
— Что такое?
— С письмом государыни императрицы, врученным курьеру лично самой государыней.
Распечатали, прочитали письмо.
"Граф Алексей Григорьевич! — писала государыня собственной рукой. — Ты мне крайне нужен по важному делу. Надеюсь, не откажешься исполнить просьбу своей государыни и приедешь в Петербург сейчас же. Мне нужно сколь можно скорее.
Доброжелательная тебе Екатерина".
— Велите послать на почту, чтобы дали вперед знать о заготовке лошадей и велели закладывать карету. Сегодня вечером я еду! — сказал граф Алексей Григорьевич камердинеру, прощаясь и провожая гостей.
Глава 2. Она та же, хотя и стала другая
— Русский дезертир и изменник, как вы смели ко мне явиться?
Государыня сказала это с сердцем, круто и холодно; но ее взгляд не принимал стального выражения. Ее улыбка не изменяла своей обыкновенной, добродушной формы и брови не хмурились судорожно, как бывало тогда, когда она была особенно сердита. Она не засучила себе рукавов и не начала бегать по кабинету, хотя и видно было, что она желает распушить виновного и поступить с ним строго с предупреждением будущих проступков ослушания и неповиновения.
— Для смертной казни ваше величество, — отвечал Чесменский почтительно, но твердо; он стоял перед ней на коленях, но смотрел тем ясным и откровенным взглядом, которым смотрит только молодость.
— Русский, бежавший своего знамени, — продолжал он, — русский дезертир несомненно заслуживает виселицы; ослушник воли своего государя заслуживает, чтобы ему отрубили голову, а изменник, действующий во вред своего Отечества, по справедливости, должен быть расстрелянным…
— Я заслужил все эти три казни, — резонировал Чесменский, — бежав из полка и от следуемой мне кары, нарушив долг послушания моей государыне и служа интересам чуждым, во вред своему Отечеству. Моя надежда на всепресветлую милость вашего величества, что вы изволите соединить все эти мои преступления и освободить меня, как вашего офицера, от позора виселицы, изволите всемилостивейше приказать или расстрелять, или отрубить голову. Тогда я надеюсь умереть так же спокойно, как, видел я, умирают французские дворяне, с молитвой за своего короля. Надеюсь, что последние мои слова будут молитва за долголетие и счастье моей государыни.
Эти слова несколько озадачили и смягчили Екатерину. Они заставили ее распустить свой приготовительный к распеканию, нахмуренный лоб и удержать резкие слова гнева. Она спросила уже спокойно, не сердясь и не настраивая себя на грозную представительницу кары:
— Скажи, Чесменский, чего ты добивался, чего хотел? Не может же быть, чтобы ты бежал, испугавшись наказания за дуэль, в которой ты виноват, пожалуй, менее, чем другие, хотя именно ты и оказал мне непослушание. Но ведь ты знал же, что я не изверг какой, не тиранка, которая пишет свои законы кровью? Стало быть, чего тебе особенно было бояться, особенно когда дуэль ничем не кончилась? Говори же, говори откровенно! Только откровенным признанием ты можешь заслужить себе — не говорю прощение, простить тебя я не могу, но снисхождение и смягчение своей участи!
— Нет, государыня, не страх наказания, не боязнь, что во взгляде вашего величества я встречу большую строгость, чем поступок мой того заслуживает, заставили меня бежать. Мне слишком известны материнские чувства ваши к своим подданным, чтобы я мог в них хоть минуту сомневаться. Но меня только гнало отсюда — это, во-первых, невыносимая тяжесть моего фальшивого положения; во-вторых, действительный страх перед могущим быть самым тираническим отношением ко мне родного батюшки. Такое отношение явилось для меня тем осязательнее, что мне стало известно, что он узнал мои чувства к нему и что, пользуясь случаем моего проступка и вашею к нему милостью, он мог легко заполучить меня в свое распоряжение!
— Родного батюшки, — проговорила Екатерина хмуро. — А ты знаешь, кто был твой родной отец?
— Знаю, ваше величество, граф Алексей Григорьевич Орлов—Чесменский! Потому меня и называют Чесменским.
Екатерина взглянула на него сурово и весьма подозрительно. "Эти мальчишки всегда все знают", — подумала она.
— И вы знаете, при каких условиях и обстоятельствах произошло ваше рождение? — спросила она.
— Знаю, ваше величество, во всех подробностях, — отвечал Чесменский, смотря государыне в глаза своим ясным взглядом. — Знаю и думаю, что если дожил до сих пор, то только благодаря милостивому вашему покровительству. Что же касается родительских чувств графа Алексея Григорьевича, то я уверен, что с первой минуты моего рождения его мысли всегда были направлены только к тому, каким бы образом смести меня с лица земли, как живой укор его совести. Теперь же, когда он узнал, что во мне он должен видеть не только безмолвный упрек его прошлому, но и грозного мстителя за это прошлое, он, я уверен, ни за чем не постоит, чтобы меня уничтожить, испепелить и искалечить буде возможно, а главное сжить со свету Божьего!
— За что же ты хочешь ему мстить?
— За свою мать, ваше величество, за самого себя. Разве может быть что-нибудь ниже, бессовестнее, бесчеловечнее, как то, что он сделал, положим для того, чтобы заслужить от вашего величества несколько монарших наград? Он обманул, обольстил, обесчестил, украл и продал мою мать, бросив в жертву ложного положения своего сына. Ведь это хуже разбойника, хуже убийцы…
В перерыв этих грозных слов Чесменского государыня бросила на него твердый, упорный, но и бесконечно грустный взгляд — взгляд такой, который заставил Чесменского замолчать. Она не рассердилась, нет, но ей, должно быть, припомнилось что-то неизобразимо тяжкое, неизобразимо горькое, что-то такое, от чего горечь отзывается и до сих пор; от чего до сих пор жмется и трепещет сердце, хотя много уже лет прошло с тех пор, когда это что-то было настоящим, и сила горечи должна бы была уже затянуться воспоминаниями.
— Резко, очень резко выражаетесь, молодой человек, — сказала она строго. — Резкость никогда не бывает достоинством, особенно в отзывах о родном отце!
Чесменский все еще стоял перед ней на коленях, смотря ей прямо в глаза своими светлыми глазами. Видно было, что он решился высказать государыне все, что наболело на сердце, а там пусть казнит! Ведь хуже же в самом деле, если займется им после родимый батюшка и велит где-нибудь голову раскроить или изувечить как-нибудь; а не то, пожалуй, еще хуже, как самому без того с голоду умереть придется! Бегать же, прятаться, шляться по чужим углам и служить интересам, чуждым и вредным России, я не стану, потому что не хочу!
Государыня сидела в креслах перед рабочим столиком, несколько отодвинувшись и откинувшись на заднюю спинку кресла. Ручка ее покоилась на столике и машинально играла карандашом. Она глядела мягко и ласково. Добрая, доверчивая и особенно светлая улыбка Екатерины придавала выражению лица ее необыкновенную нежность и истинно материнскую доброту.
Поддержанный, может быть, благосклонностью этой улыбки, Чесменский позволил себе продолжать свою мысль.
— Но как назвать, всемилостившейшая гоударыня, обольщение, обман и воровство, в виду целого города наглый захват и потом бессовестнейшую мистификацию всего, что есть в человеке дорогого, священного? Разбой, злодейство — слова не только нерезкие для таких поступков, но едва ли обозначают еще всю их гнусность и низость…