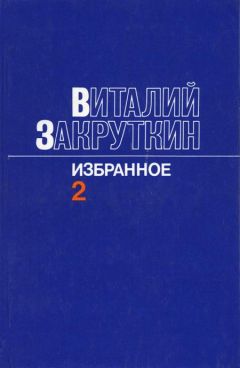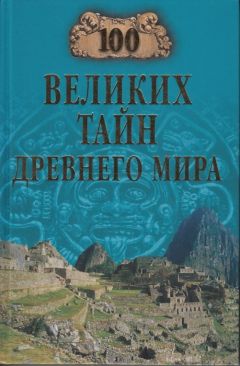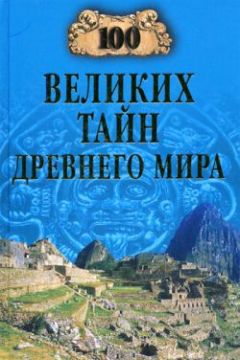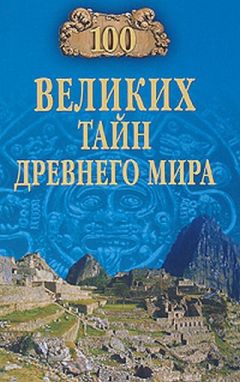Петр Сухонин - На рубеже столетий
Но ведь он хотел лучшего! За что ж так мучат его они — эти воспоминания? В первом случае он, кажется, достиг того, что стало лучше. Царствование Екатерины было славное: и победа над врагами, и законодательство, и развитие производительности!.. Да! Но кто тебя избрал быть решителем судьбы русского народа? Кто дал тебе право судить, что лучше и что хуже для его будущего? Кто дал право своевольно распоряжаться и давать то, отнимая это, и не на данную только минуту, а надолго, надолго, пока сделанная тобою перемена не сольется с общим ходом жизни?
Какой же ответ дашь ты в этом самовольстве, в этом самодурстве твоем? Ты коснулся того, что неприкосновенно; кощунствовал над тем, что свято. Русский ли человек оправдает тебя? Ты хотел лучшего — говоришь ты, — да! Для себя, не думая о том, что то, чего ты святотатственно касаешься, относится ко всем. За это нет тебе прощенья. Имя твое перейдет потомству, как имя злодея, который ради земных благ, ради своего чревоугодничества не признавал границ своему самохотению. Что же тут твоя доброта, твое ломанье перед народом?
А другой случай — воспоминание вечера. Здесь нет неприкосновенности, нет святости, тут просто уничтожение интриги — польской или иезуитской, французской или шведской — это все равно, интриги, во всяком случае направленной против России, против ее спокойствия. Такая интрига могла тяжко отозваться на всем царстве русском, могла много зла принести нашему любимому Отечеству. Полно, Алексей Григорьевич! Неужто ты в самом деле мог думать, что молодая, неопытная женщина, без гроша денег, с двумя-тремя ухаживателями, хотя бы эти ухаживатели были мелкие князьки Священной Римской империи, может быть опасною русскому православному царству, и в такое-то время, когда громы побед его только что заставили дрожать Балканы и Карпаты? Нет, ты не так наивен, ты не думал этого! А тебе просто хотелось подняться, сделать что-нибудь выходящее из ряду. Брат же твой, князь Григорий Григорьевич, потерял свой кредит и случай в это время, и тебя очень хотели затемнить, и было на чем затемнить, хотя бы на том только, что потребовалась бы более строгая отчетность, чем та, от какой тебе хотелось отделаться! Хорошо, но все же, положим, не очень опасную интриганку не дурно было уловить для прекращения всех смут и толков. Ведь тут нельзя не признать — нет неприкосновенности, нет ничего особенно дорогого, нет святого, заветного? За что же может тут мучить совесть, отчего при воспоминаниях замирает сердце? Очень просто! Нет тут неприкосновенности, ни святости, а есть, в глазах народа, любящая женщина!
Подумай, граф Алексей Григорьевич, благородно ли, честно ли, наконец, разумно ли заставить себя любить, для того, чтобы продать; вызвать сочувствие и откровенность для обмана и предательства? Честно ли, благородно ли, человечно ли принять личину преданности, более — страсти, для уничтожения и гибели? А ты уничтожил и погубил не только беспредельно любящую тебя, но и твоего собственного, родного сына. И ты хочешь быть спокоен в своей совести? Хочешь смотреть на себя, как на человека доброго, благодетельного? Подумай лучше, можешь ли ты смотреть на себя хоть просто как на человека? Положим, нужно было разбить интригу. Но ты разве не знаешь силы любви, разве тебе неизвестно могущество ее влияния? Любящая женщина, преданная тебе бесконечно, легко могла бы убедиться в невозможности того, что рисовало ее воображение, но никак не диктовал разум. А тогда не было ли бы достигнуто то же, только средствами разума и чести, а не проходимством воровства, предательства и самого зверского кощунства над чувством, над отношениями и над разумом истины? Подумай, вот ты женился, женился по своему выбору на восемнадцатилетней девице, хорошенькой, очень хорошенькой, знатного рода, со связями и богатством. Авдотья Николаевна Лопухина пошла за тебя не насильно же? Стало быть, ты имел все шансы в женитьбе своей надеяться на счастье самое полное, самое совершенное. Но был ли ты счастлив с ней хоть одну минуту, так счастлив, как с тою, которую ты предал, обманул?.. Нет, ты знаешь это, сознаешь это, и даже сам не понимаешь отчего. Жена прожила недолго, оставила дочь. Графиня Анна Алексеевна не красавица, но хорошая девушка, сказать нечего! И государыня ее любит, и все справедливость отдают. Но видишь ли ты в ней то, что хотел бы видеть в своей дочери? Нет, тысячу раз нет! Она не то, что ты бы хотел, чего ожидал, чего надеялся! Она хорошая девушка, но не такая, какой ты желал!
Уж одно: ты никогда скуп не был, когда деньги есть, готов был всегда делиться и своею милостью всех награждать. Тут немало попадало от тебя и странникам, и каликам перехожим, и духовенству, и монастырям. Но ты никогда не любил с ними возиться и время проводить. Ты говорил духовным духовное, а нам, мирским людям, мирское! А дочь твоя — Анна? Видишь, она и слушает только калик перехожих да аскетов многоглаголивых. Она тает от их речей, смотрит в глаза им, а о других даже и не думает, других даже за людей не признает.
К тебе приехал сын твоего старого товарища. Что за молодец, что за разумница. Молод, а уж заслуги какие оказал, видимо, через отца перешагнет. Отец старый самодур, однако ж генерал-аншеф и человек весьма уважаемый и богатый. Сынок этого самодура Михайло Федотыча Каменского, Николай Михайлович Каменский, приехал к графу Алексею Григорьевичу и дал почувствовать, что графиня Анна Алексеевна ему очень и очень нравится. Вот бы женишок: всем взял! Граф богат, хорош, молод, не сегодня-завтра фельдмаршал! Потому что талант, настоящий талант… Очень бы хотелось графу Алексею Григорьевичу сладить это дело. Не тут-то было! Графиня Анна Алексеевна предпочитает слушать какого-нибудь странника, какого-нибудь калику перехожего, любуется скорей каким-нибудь монахом Афонской горы, ей нравятся больше рассказы о невероятных чудесах греческих монастырей, чем полный ума и блеска, образованный разговор графа Николая Михайловича, которого заслушивается и на которого засматривается сам Алексей Григорьевич, хотя ему досталось, кажется, в жизни много кое-чего видеть и много кое-чего испытать. Отчего же это так? Отчего между отцом и дочерью такое противоречие взглядов? Очень просто: идеалы их разошлись! А разошлись они оттого, что ни жена его покойная, ни его дочь никогда душой не сходились с ним, никогда не сливали с ним своих желаний и своей мечты…
"Вот сын от той, которая меня любила и которую я обманул, вот, пожалуй, у нас с ним могли бы, может, быть и общие идеалы и общие желания! — думает про себя граф Алексей Григорьевич. — Но я не думал о нем, я не хотел видеть его, и он исчез, скрылся, будто под землю провалился, и ни слуху ни духу! Впрочем, слух есть, вот Гардер мне пишет из Мюнхена, что какой-то русский мальчишка Чесменский, — надо полагать, он и есть, поднял там против меня целую бурю. Он хочет мне мстить за свою мать, заявляя, что я оскорбил чуть ли не все человечество. Он хочет, чтобы месть была страшная, ужасная — соответственная злодейству, по его мнению, моего поступка. Для того он волнует и хочет опереться на все подземные силы иллюминатов. Мальчишка, мальчишка и дурак, более ничего! Во-первых, должен же он был подумать, что я всю эту подземную вражду, всю эту таинственную силу иллюминатов могу парализовать какими-нибудь тысячью рублями. Я так и сделал: как приезжал сюда граф Сергей Петрович Румянцев, я заехал к нему, познакомился там с этим Николаи, который, говорят, между иллюминатами имеет особое влияние, разговорился и заявил, что, сочувствуя общим, благотворным видам иллюминатства, я желал бы поступить в члены их общества. Он с удовольствием выразил готовность меня представить. А когда я буду их брат, понятно, всякая месть должна будет смолкнуть. Не могут же они желать отравить, убить или сделать какое-нибудь зло своему члену-собрату, особливо собрату полезному и денежному? И вся суета, все красноречие моего мальчишки пропадет даром. Иллюминаты и не подумают мне мстить ни за мать, ни за него самого. А как при том, по крайней мере в материальном отношении, я буду для иллюминатов несравненно полезнее, чем он, то они сами станут оберегать меня от его притязаний, сохранять от его мести. Так что я вполне спокоен, ничего тайного, ничего выисканного против меня со стороны иллюминатов не может быть предпринято. Одно разумеется, что он может сделать, и непременно сам — это убить из-за угла. Но разве это месть? Во всю мою жизнь смерти я никогда не боялся — да ведь умереть все равно когда-нибудь придется, так что уж тут толковать — раньше ли, позже ли, не все ли равно? Пришлось умирать, думать нечего, умирай себе спокойно. Вот пока жить приходится — так о жизни подумать — нужно, чтобы жизнь была хороша, нужно, чтобы жизнь тешила, а то, пожалуй, лучше и умереть. Таким образом, мой шут-мальчишка, мой дорогой сынок отмстить мне никак не может. Попотчевать чем-нибудь таким, чтобы я страдал годы, десятки лет, а на это могли быть способны иллюминаты, ему не удастся — те же иллюминаты помешают; а убить — это я не считаю местью, да и то хитро будет. Редко я бываю один. А меня окружает обыкновенно народ преданный. Да когда я и один, то разве моментальный, верный выстрел, а нет, так, наверно, будет сам смят, сломан и на себе же попробует, что значит нападать, да еще нападать на такого человека, каков граф Орлов—Чесменский, который один с медведем справится. Я, разумеется, не убью его, но уж, извини, голыми руками искалечу так, что он тогда же почувствует, что такое месть — настоящая, действительная, то есть — страдание в жизни, а никак не убийство! Одно вот, что когда я думаю обо всем этом, когда вспоминаю, мне само собой является страдание. Сейчас будто оживает передо мной, является будто тень этой княжны Алины или Елизаветы, Бог знает, как ее звали, и я вижу, как в боскете из мирт и померанцев, устроенном на балконе в Ливорно, с чудным видом на залив, она падает ко мне на грудь и говорит: возьми все у меня — имя мое, и мое положение, и долженствующее достаться наследство, самую жизнь мою — возьми душу и тело мое! Ведь я твоя, вся твоя… А я спокойный и холодный в это время, не думая ни о какой страсти — напротив, думая о другой женщине, которая своим подчас стальным, а подчас жгучим взглядом скорей бы мне ужас внушила, чем страсть, хотя она и страсть могла внушить, доказательство брат Григорий, ну да это в сторону, дело в том, что под влиянием обязанностей к этой женщине я забываю свою голубку; я, уже целуя ее и сжимая ее в своих страстных объятиях, обдумываю, как я обману ее, как выдам и какой новый фортель приму, чтобы это не представлялось ей ясным. Когда я вспомню об этом да подумаю, то так тяжело на сердце станет, так сожмется душа, что я себе места не нахожу; в воду бы бросился… Нужно развлечься, во что бы то ни стало нужно развлечься! Вот что, на этой неделе я полагал устроить медвежью охоту, думал побороться с Мишенькой сам. Несколько медведей готово. Теперь от скуки, для развлечения не попробовать ли побороться сегодня. Только вот что, нужно что-нибудь новое. Столько раз я брал уже медведя на рогатину, что надоело. Не попробовать ли сегодня новый способ — вместо того, чтобы драться пешим с рогатиной, взять его конным с копьем в руках…"