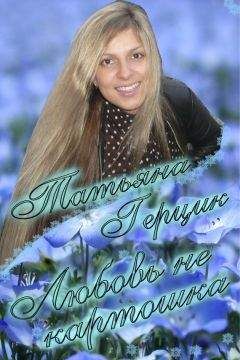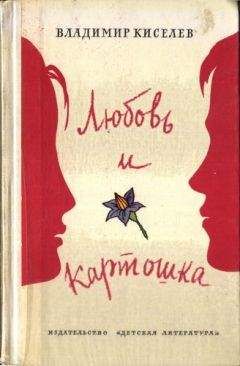Илья Сельвинский - О, юность моя!
Он плакал от своего сиротства, оттого, что взошла луна, что крепко пахло сеном, что ему двадцать лет, а у него нет любимой... И вдруг из-за скирды появилась тень с этрусской прической. Опять Гунда? Она быстро и бесшумно присела у подножия скирды, стройная, сильная, очень напряженная, и молча глядела на Елисея.
— Гунда? — спросил он.
Гунда молчала. Леська тоже молчал, усталый и умиротворенный, как это бывает после слез.
— Ты слышала, как я плакал? Но это так... Ничего особенного... Контузия.
Гунда молчала. Леська вспомнил, что никогда не слышал ее голоса. Гунда всегда молчит.
— Гунда... — сказал Леська. — Ты уже большая... Должна многое понимать... Понимаешь ли ты эти строки:
Нет ничего печальней на земле
Мужской тоски о женском обаянье...
Гунда молчала.
— Этой тоской я сейчас охвачен так, что впору выть на луну. Гунда! Ты могла бы меня поцеловать?
Гунда кинулась на Леську, как зверек, и крепко по-детски поцеловала его в губы. Леська не удивился. Он обнял ее и мягко привлек к себе. Теперь Елисей полулежал на сене, а Гунда у него на груди слушала стук его сердца. Он вдыхал аромат ее щеки, шеи и уха. Он почувствовал, как тает крутой камень у него под грудью, тот самый, который возникал в шторме, тот самый, что в бою... Это было тихой, ни с чем не сравнимой радостью. А Гунда глядела ему в глаза. И вдруг вскочила:
— Идет! Сюда идет, проклятая! Всюду она... Она, она...
Девчонка застонала от злости и вмиг умчалась в темноту. Елисей прислушался. Действительно, шаги. Из-за скирды показалась Каролина Христиановна.
Она обернулась к Елисею и отчеканила:
— Зачем вы ухаживаете за дочкой? Она еще совсем ребенок. Следует прекратить.
Леська вскочил. Но женщина повернулась к нему спиной и начала уходить в синеву. А месяц был таким огромным, а ночь такой теплой, а летучие мыши чертили такие слепые молнии... Бывают минуты, когда человек принадлежит только себе! Себе и природе!
Леська бросился за ней и подхватил ее на руки.
— Вы сумасшедший! Нас увидят!
Леська понес ее в поле, сам не зная почему.
— Отпустите меня! Слышите? Немедленно и сию же минуту!
— Отпущу, если вы меня поцелуете.
— Nein! — воскликнула она хрипло,
Это немецкое слово хлестнуло его кнутом. Леська оробел и опустил ее на землю. Каролина Христиановна резко отвернулась и быстро пошла к дому. Леська поплелся вслед, растерянно улыбаясь и презирая себя изо всех сил.
Ночь Елисей провел в бессоннице. Утром, еще до колокола, он вывел Зигфрида, напоил его, запряг и начал пахать. К его удивлению, работа показалась ему гораздо более легкой, чем прежде. Конечно, труд оставался трудом, но в нем уже не было ничего невыносимого. Напротив, в какой-то момент Елисей почувствовал даже вдохновение. Он крепко вжимал лемех в почву, и борозды шли ровными и тонкими, как рельсы.
Зазвонили к завтраку. Елисей сел за стол успокоившийся и какой-то даже озаренный.
— Что это ты нынче запахал с самой ночи? — спросила Софья.
— Да так. Не спалось что-то.
— Распелся, вот и не спалось.
На террасу вышла Каролина Христиановна и осмотрела стол: все ли в порядке. На Леську она не глядела и вообще держалась сухо и по-хозяйски.
Позавтракав, работники ушли в поле, и опять Елисей почувствовал удовольствие от пахоты и хотя к обеду устал, но это была приятная усталость.
— Да... Леська у нас теперь настоящий пахарь, — сказал старик. — В четыре утра он уже ходит за лошадью. Не терпится. Золотой будет работник.
Похвала хозяина пришлась Леське по душе — тут уж скрывать нечего. Но все же мучил его вопрос: откуда у него артиллерийский конь?
Вечером, после ужина, к Елисею подошла Софья.
— Пойдем, Леся, в поле. Споем каку-нибудь, а?
— Пойдем.
Тут же к ним присоединился Пантюшка со своей балалайкой.
— Пантюша, родимый! — сказала Софья. —У че-эка две ноги, две руки, два глаза, два уха — вот и вся география. А трех у него ничего-то и нету.
Пантюшка понял и, обидевшись, отошел в сторону, теребя то одну, то другую струну на балалайке.
Софья обняла Елисея за талию, Елисею пришлось обнять ее за плечи. Так они и пошли в поле. Каролина Христиановна наблюдала эту сценку с террасы, по-мужски упершись кулаками в голый стол и следя глазами за парой, покуда она не исчезла в сумерках. Потом донеслась до нее песня в два голоса:
У меня жена —
Раскрасавица,
Ждет меня домой,
Разгорается.
Ночью Леська лежал и думал о том, как у народа все просто и мудро. Потребность в любви не остается у него неутоленной. Там себя не калечат. А он весь погряз в интеллигентщине со всеми ее условностями и предрассудками. Потом он заснул и слышал во сне запах диких трав, которыми так хорошо пахло от Софьи.
Утром Елисей впряг серых в дышло плуга и принялся было заканчивать поле Пантюшки. Был шестой час. Небо в цветных перьях напоминало стаю фазанов. Даже галки казались розовыми.
Серые кони русского языка не понимали. Леська понукал их криками: «Но-о! Вперед!» — но лошади нервничали и шарахались в стороны.
— Ты скажи им: «Форвертс!» — закричала Гунда.
Она бежала к нему по пахоте в синем халатике и в сандалиях. Несла она кулек из газетной бумаги. Галки взрывались из-под самых ее ног и галдели про нее нехорошими словами.
— Вот! Я принесла тебе табаку.
— Спасибо. Но я не курю.
— Не куришь?
Гунда отшвырнула кулек на межу.
— Я вчера к тебе не пришла, потому что отец немного прихворнул, а мачехе я не доверяю: еще отравит.
— Ну, что ты говоришь?
— А сегодня приду. Хочешь?
— Видишь ли, Гунда. Мы не должны с тобой оставаться наедине.
— Почему?
— Люди могут подумать бог знает что.
— А нам какое дело? Мы никого не грабим.
— Но тебе ведь всего-навсего пятнадцать лет.
— А зачем тогда ты меня нюхал? Ты думаешь, я верю, что детей аист приносит?
— Я этого не думаю, но ты еще совсем девочка. Почти ребенок. Тебе еще рано бегать на свидания.
Гунда беззвучно заплакала. Крупные, алые от зари слезы катились по бледным щекам, но лицо по-прежнему было неподвижно. Она умела брать себя в руки, эта девочка, но за слезы не отвечала.
— Тогда вот что! — сказала она, стиснув брови. — Через два года мне семнадцать лет, и я смогу делать все, что захочу. Подождешь меня эти два года? Мы будем переписываться, а иногда и видаться: я ведь учусь в Евпатории. А потом ты на мне женишься. Хорошо?
Елисей с нежностью глядел на девочку.
— Хорошо. Давай переписываться, а там видно будет.
— Ну, а теперь поцелуй меня на прощание.
— Почему «на прощание»?
— Потому что тебе нужно отсюда уходить. Раз мне нельзя с тобой, то пусть будет нельзя и моей мачехе. Этого я не позволю.
Она подошла к Елисею и протянула губы. Леська наклонился и поцеловал ее в щеку.
— В губы! — приказала она так властно, что Леська не посмел ослушаться.
Она не ответила на поцелуй, повернулась и, не оглядываясь, пошла к дому, угловатенькая, волевая, полная надежд: у нее уже была на примете коробочка с голубой ленточкой, где она будет держать Леськины письма.
А Елисей выпряг серых, отвел их во двор, привязал к террасе, пошел в сарай, переоделся в свой студенческий костюм и поднялся в дом за расчетом.
Старик сидел за столом, щелкал костяшками на счетах и тихонько напевал воинственную песню благодушным голосом:
Нах Африка,
Нах Камерун,
Нах Камерун,
Нах Камерун,
Нах Африка,
Нах Камерун...
Потом поднял голову:
— В чем дело?
— Получил письмо: тяжело заболел дедушка. Нужно возвращаться домой.
— Дедушка? — недовольно спросил старик.
— Да.
— А бабушка, слава богу, ничего?
Этот юмор не произвел впечатления.
Пока хозяин лазил в комод за деньгами, Леська оглядел комнату. На комоде стоял граммофон, накрытый кружевной накидкой. Его никогда не заводили. Рядом серебряный самовар, также накрытый салфеткой. Его никогда не ставили. Между ними высокая прозрачная четвертина, внутри которой впаян цветной картонный макет какой-то знаменитой кирки.
Леська обернулся и вдруг задохся от застарелой ненависти: он увидел над кроватью в траурной раме увеличенную фотографию Эдуарда Визау. Так вот в чей дом он попал!
— Зачем Эдуард пошел против красных? Был бы сейчас жив.
— А ты откуда про него знаешь?
— Народ говорит.
— «Народ»... Все пошли, и он пошел. А что хорошего у красных? Хлеб отбирали, как будто они его сеяли.
— Германцы тоже отбирали хлеб.
— Ну, то германцы.
— Это как понять?
— На! Получай и уходи. Не люблю я говорить про политику.