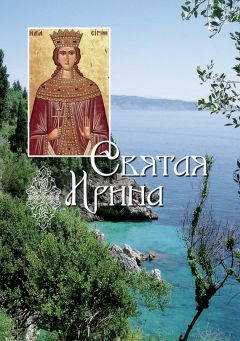Эдуард Скобелев - Свидетель
Я вышел. В дежурной антикамере уже никого не было.
Возле конюшни я нашёл одного из часовых, белобрысого сержанта лет двадцати. Он сидел на земле, опустив голову, и плакал, повторяя: «Как же? Как же на всё воля Божья, коли князь ему на грудь ногами, ногами?..»
Тяжкое серое небо опрокинулось на меня — не вздохнуть. Давешняя тоска сдавила. Всё стало безразлично, потому что было беспросветно.
Я сел на коня, отделённого для меня командою, и, не обмолвясь ни с кем даже и словом, поехал прочь от места моей казни — в Петербург. Не прекратись дождь, которого я и не примечал, я бы промок до нитки, понеже весь был во власти неразрешимой своей думы.
Уже в виду городской заставы мне прояснилась причина тоски: в судьбе государя, далёкого, конечно, справедливости, усмотрел я судьбу своего народа, самозванцы над которым больше всего не желали допустить его до светлого и вольного состояния. Мистификация продолжалась, и люди оставались всего лишь листьями на древе, и всякий червь точил их бессчётно, и всякий ветр обрывал их, как ему хотелось, порознь или охапками, и нёс куда вздумается…
Не Пётр Фёдорович вовсе лежал бездыханным — лежало простёртое ниц бедное отечество моё, и близок был час его погибели от насильников, а мы даже криков и стенаний не примечали…
Не заезжая домой, я направился к господину Хольбергу.
— Его задушили! — сказал я, едва войдя в кабинет, где камергер, стоя за конторкою, что-то выписывал из книги. — Пианые мерзавцы, предводительствуемые Орловым!
— Не осуждаю, — пристально вглядываясь в меня, отвечал господин Хольберг. — И мерзкое выпадает вершить кому-то, ибо всякое дело необходимо! Мы обещали государыне трудиться ради единства власти, и сие соизволение Господне, неоспоримо, укрепляет оную: в одной лодке положено быть одному шкиперу, дабы не опрокинуть её на волнах. Через день объявят, что Пётр Третий скончался с перепоя. Тело его выставят в отдалённой церкви на обозрение. Народ увидит его в ненавистном мундире голштинского офицера, и каждый станет повторять, что даже исповедовал его лютеранский пастор, а не православный поп!..
— Знаете ли вы, зачем я пришёл? — воскликнул я, не удержавшись и чувствуя, что не могу долее жить, не восстав против шайки растлителей духа. — Знаете ли?
— Знаю, — снимая очки, отвечал из-за конторки господин Хольберг. — Ты явился, чтобы убить меня, и полагаешь, что сим безумством повредишь делу масонов. Нет, смерть даже десяти тысяч таковых людей, как я, не может повредить великому делу… С самого первого дня с тобою велась игра, которую ты воспринял всерьёз. Я всегда знал, что ты злейший враг Ордена, но ты был нужен нам как исполнитель необходимого дела, о смысле которого, конечно, и не подозреваешь. Знай, именно ты погубил капитана Изотова, именно ты подписал смертный приговор князю Матвееву! Подьячий Осипов в Мошковом переулке был нашим человеком. Ты оказался жалким одиночкою, и все твои мысли, все надежды угаснут вместе с тобою!
Кто не остолбенел бы, услыхав таковые невозможные речи! Но я хорошо усвоил повадки коварных истязателей. Камергер искал повернее обескуражить меня, и я не сомневался, что он нашаривает уже за конторкою заряженный пистолет.
И я не ошибся — чёрное дуло возникло над книгою и уставилось мне точно в грудь.
— Сколько бы их ни было, преступлений, наказание неотвратимо! — воскликнул я.
— Высокопарные слова! Взгляни на жизнь в природной завершённости её, — продолжал камергер, внимательно следя за каждым моим движением. — Человек должен губить человека, иначе жизни не будет. Одно животное пожирает другое, а коли пожирать не станет, погибнут многие. Так и люди: перестанут восходить к совершенству, коли исключится вовсе вражда между ними. Вся наша мудрость сводится к тому, чтобы находить истинных, а не воображаемых лишь врагов и неотвратимо губить их.
— Безвинные народы делаете вы своею жертвой?
— Сие потому только, что многие действительно глупы и не хотят признать права на наследство за одною лишь масонской мудростью. Не мы в том виноваты, что нам приходится обличать невежество, но те, кто не способен безоговорочно принять наш свет… Вот ведь и ты оказался заурядным человеком, не увидевшим дальше вздорных басен об отечестве и долге. Червь гниль сосёт, чтобы жить, он постиг высшую правду, а человек выше ищет и потому червём попираем!
— Но человек — не червь!
— Всё — червь! И ты — червь!
— Был, доколе слепо подчинялся вам! Но насилие не всесильно!
— Всякая революция — насилие. (Я чувствовал, что камергер неспроста затягивает разговор, он нечто замышляет.) Стало быть, всякое насилие — революция. А Орден — революция непрерывная, вечная, охватывающая весь мир! Неуспех его — временный, успех — постоянный. Если бы нынешняя революция, свергшая Петра Третьего, окончилась неудачей, её вожди бежали бы в Швецию, чтобы не выдать многие дворы, революции поспешествовавшие. Всё было подготовлено. Но братья остались бы вне подозрения и продолжали бы своё дело!
— Любой заговор обречён. Рано или поздно он исчерпает сам себя, потому что противоречит основам Божеского миропорядка!
Камергер торжествующе рассмеялся.
— И во всей вселенной добро и справедливость — лишь только красочная декорация. Хозяин всему на свете — насилие, насилие не только закона, но и беззакония, не только кнута, но и пряника, не только веры, но и надежды, не только дня сегодняшнего, но и вчерашнего и завтрашнего. Кто владеет наукой насилия, пребудет господином сего мира!..
— Богат Тимошка, но и кила с лукошко! Рано или поздно правда восторжествует! — Я уже не выдерживал. Отчего он не стреляет, что у него на уме?..
— Глупо сводить всё к единой правде: Бог — одно, творение его — другое. Может, правда — одна для духа, другая для плоти? Правд на свете столько же, сколько и людей. И кто пожелает связать правду со справедливостию, паки сотворит ложь. Солнце светит для убитого и убийцы. Земля кормит червя и изысканный цветок. Лететь, лететь нам, как ветру, и нигде не остановиться!.. А теперь не двигайся, господин Тимков, понеже стоишь на редчайшем персианском ковре, и твоя кровь испортит его!
В тот же миг руки двух дюжих слуг господина Хольберга одновременно легли мне на плечи, шпага была тотчас же отнята. Как сии люди проникли в кабинет? Как оказались за моей спиною? Впрочем, раздумывать о сём предмете было некогда.
— Ты думал, я принимаю твой показной ропот за слёзы девственницы, проснувшейся в брачной постеле? — злорадно ухмыльнулся господин Хольберг. — Нет, я просто оставлял тебе кусочек надежды, позволяя свободно размышлять о прошпективах борьбы с Орденом! Чтобы хорошо контролировать врагов, мы не должны совершенно лишать их надежды. Надежда расслабляет, побуждает искать самые разумные, иначе говоря, самые лёгкие пути действия, предвидеть которые не составляет труда, безнадёжность же подаёт повод к безрассудству, где предусмотреть крайне затруднительно…
Совершенно расслабясь и как бы не обращая ни малейшего внимания на крепко державших меня слуг, я уже без потрясения внимал господину Хольбергу. И неожиданно резким движением бросил обоих стражей головами о дубовую конторку. Сие вышло удачно, понеже они бдительно цеплялись за меня. Вот когда повседневные, обременительные упражнения мои сыграли спасительную роль!
На самый короткий миг мишень ускользнула от наведённого уже пистолета. Но и того мне было довольно, чтобы совершенно освободиться от слуг камергера и опрокинуть на него конторку. Успев отпрянуть, он не успел выстрелить — я перенял его руку и следом ударил ребром ладони по шее. Прежде нежели мой противник обмяк, я завладел пистолетом. И кстати — один из слуг с яростным рёвом устремился на меня. Я сразил его выстрелом в упор. Второго, поднимавшегося с пола, оглушил ударом кулака. Обернувшись, увидел, что камергер тянется к другому пистолету, выпавшему из ящика конторки при её падении. Не раздумывая, захватил я и сей пистолет, бросившись на пол. Но мой ловкий противник, успевший прийти в себя и владеющий всеми тайнами коварной борьбы, вскочил и обоими кулаками нанёс мне сильнейший удар в спину. Страшный удар в назначенное место, бессомненно, вызвал бы паралич двигательных нервов и сбил бы моё дыхание, но по счастью он оказался не точен. Я выстрелил в грудь негодяю. Он вскрикнул и рухнул на ковёр. Я наклонился над ним и тотчас заметил, что под платьем у него кованый панцирь.
По всей видимости, камергер не был убит. Но искать другого способа покончить с ним я не мог, зная, что тревога уже подана и сейчас сбегутся все прислужники зловещего дома.
Выбираясь через растворённое окно, я уже сожалел, что оставил жизнь гнуснейшему из негодяев. Будь таковых «братьев» у ордена сто тысяч, погубление даже и единого имело свой смысл — разве уничтожение неприятельской армии не начинается уничтожением первого её солдата?