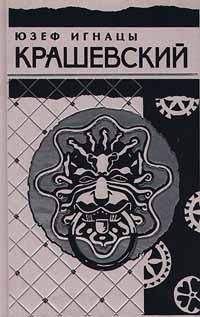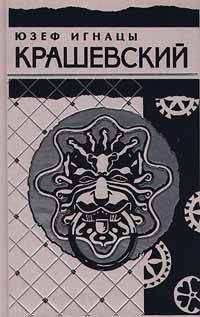Юзеф Крашевский - Сфинкс
На другой день опять пошел к Перли, но, к счастью, встретил его на улице, не то потерял бы много, явно обнаруживая свое безвыходное положение.
Перли сам к нему подошел.
— А! Привет! Только не сердитесь! — сказал. — Ведь вы не сердитесь?
— Я! На вас! — ответил Ян полупрезрительно, полуспокойно.
— Ну вот, так и хорошо! Ладно! Ладно! А что, работа есть? (Знал прекрасно, что не было никакой.)
— Надеюсь, мне обещали, но пока я свободен.
— Ну, может быть, мы бы сговорились?
— Говорите откровенно! — воскликнул Ян. — Сколько вам платят? Сколько хотите взять себе, ничего не делая и вдобавок приобретая славу? Сделаю, что надо и на ваше имя; это не важно, о здешней славе я не забочусь.
— Ну, ну! Вот именно! Мы сойдемся; очень хорошо, и напишем условьице.
— Как хотите.
— Видите, в чем дело, — сказал Перли, взяв его фамильярно под руку. — У меня много опыта, вы сами признали у меня удачное освещение. Я тоже дам совет и некоторые комбинации.
— Хорошо, хорошо! — ответил Ян, сбитый с толку своим положением.
— Хотя я и не бывал в Италии, но смекалка есть! Смекалкой со всем справляюсь. Ну, пане Янку, как-нибудь уж столкуемся. Вот так. Мне платят за потолок и три запрестольных образа масляными красками от четырех до пяти аршин вышиной, в общем, како тоже… Сказать правду?
— Кажется, что следует.
— Так вот дают мне за работу 3.500 злотых; да, три! А вы поверите ли, что этот мазурик Мручкевич под предлогом, что меня рекомендовал (како тоже), хотя пальцем не кивнет, берет у меня из этой суммы пятьсот злотых, которые оговорил в договоре под предлогом соучастия. Прохвост! Мазурик, говорю! Но пусть подождет, я отомщу! Итак, остаются нам 3000. Даю содержание, стол, мальчиков, помост, краски, все, с условием, чтобы на драпри в картинах не брать ультрамарина, а пользоваться более дешевой, антверпенской. Так вот остаются 3.000. Ну, сами скажите, что мне взять, так как я буду начальником, буду головой, а вы моей рукой.
Ян горько улыбнулся.
— Голове две тысячи, а руке…
— Пан Станислав! — сказал Ян, — разве совесть вас не мучает? Ведь вы ничего не можете делать, так как не умеете на стене; больших фигур даже не нарисуете.
Словно пораженный молнией, отскочил Перли.
— Кто это вам сказал? Это бестия Розына, которую я видел, как она что-то нашептывала под лестницей, или негодяй Мручкевич. Но это возмутительная клевета! Это оскорбление!
— Никто мне не говорил, ни Розына, ни Мручкевич; достаточно видеть твои картины.
Перли сжал синие губы и, взяв Яна за руку, сказал:
— Но ты этого не рассказываешь? — спросил он.
— Я? Разве когда я говорю о тебе!
— А когда будешь за меня работать…
— Раз мы договоримся, никто в мире не может знать, что я там писал; не знают меня. Монахи могут меня не видеть, я запрусь.
— Слово?
— Слово.
— Ну, так дам тебе полторы тысячи… недостаточно? Недостаточно?
— Дай две, вдобавок получишь имя, буду работать добросовестно, как бы для себя. Станешь знаменит.
— Ей Богу не могу, но для тебя (како тоже) что поделаешь? Тысяча восемьсот и ладно… А оставшиеся краски вернешь мне! — поспешил он добавить.
Ян равнодушно пожал плечами.
— Возьми их себе! — сказал он.
Итак, они пошли подписать отвратительный договор, а Перли дал задаток пятьсот злотых, так как сам взял тысячу.
Неся жене деньги, художник в душе плакал; но решил скрыть от нее, какой великой жертвой покупал хлеб насущный для нее и ребенка. Через два дня приходилось расстаться с ними и отправиться хотя бы пешком на место, где торопили начинать работу.
Были сумерки, когда Ян медленно вошел в квартиру. Это не было нарядное, веселое и разукрашенное надеждами, как венками, жилище новобрачных. Почти два года кончалось, а как многое тут изменилось.
Мастерская, раньше оживленная картинами, светлая, приятно ласкающая взор, как бы ожидающая труженика, теперь стояла пустой. Несколько неоконченных полотен, замазанных, свидетельствующих об отсутствии сил и порыва. Все было покрыто пылью, запущено. Папки, брошенные в угол, гнили, везде было полно мусора и обрывков. Кошка играла шариком, отвинченным от мальштока.
На боковой стене наброски голов выражали страдание и отчаяние; в чертах лица можно было узнать Яна. Давно начатый портрет Ягуси стоял неоконченный на треножнике.
То же и в гостиной, тесной, печальной, холодной. Исчезли дорогие сердцу мелочи и воспоминания; один лишь маленький сфинкс остался на камине.
Увидев его, Ян заломил руки, положил рядом с ним мешок с деньгами и сказал:
— Теперь я знаю, сфинкс, что ты значишь! Сфинкс это художник. Голова человека, это великий дух, это частица божества в его груди; тело животного, это узы животного характера, которые нас связывают; распущенные крылья, это восторг, который, однако, не унесет каменное чудовище от земли! Каменный, железный, никогда не живой; это художник, которого создала не природа, а потребности цивилизации, рука и ум человека! Поэтому он всегда в мире, но не для мира, и не может ему быть хорошо. Художник нуждается в высокой культуре, в счастливой эпохе и стране; а у нас! У нас!
Он медленно вошел в комнату Ягуси. Здесь еще сохранились проблески жизни. Маленькая комнатка с кроватями была по-прежнему чиста, свежа и мила. В ней прибавилась лишь люлька, в которой спал маленький Ясь, а сидящая над ним мать вязала чулок. Платье на ней было скромное, бедное, а черты лица обнаруживали долгое, тайное страдание. Видя ее ежедневно, Ян не замечал перемены, какая с некоторых пор проявлялась все резче в ее чертах. Она все больше бледнела, румянец угасал, а веселое личико девушки превратилось в строгое лицо женщины, которая задумывается, мечтает и боится, лицо, углубленное торжественным выражением, не менее красивое, хотя уже не столь свежее. Правда, при виде Яна, при виде протянутых к ней ручек ребенка, на устах Ягуси появлялась улыбка; но сколько раз после нее без всякого перехода, без видимой причины появлялась глубокая задумчивость, серьезная, как печаль христианина! Восторгов девушки, ребячества молодой жены, веселого смеха радующегося жизнью создания, столь красивших ее раньше, она уже теперь не знала. Глаз иногда долго смотрел вдаль, где перед ним ничего не было, в лазурь небес, в темноту ночи, словно ища там разгадки непонятной загадки.
А песнь юности утихла, раздавалась лишь еще у люльки, где перешла в меланхолический, бесконечный, медленный напев, звучащий, как мысли, однообразно, печально, тяжко. Когда она смотрела на Яна, слеза иногда навертывалась на глаза; взглянув на ребенка тяжело, болезненно вздыхала.
Такой была Ягуся, такой ее нашел Ян у люльки с чулком в руках. Положил перед нею мешок и сказал с улыбкой неискренней радости:
— Вот все-таки задаток работы! Первой, за которую я принимаюсь. Весь костел, три запрестольных картины, за нищенское вознаграждение; но это начало!
Ягуся недоверчиво взглянула на него.
— Правда? — сказала она.
— Видишь доказательство, но…
— Есть оно? — спросила жена, бросая чулок и смотря ему в глаза.
— О! И довольно неприятное! — промолвил, наполовину скрывая свою мысль, Ян. — Я должен с тобой на время расстаться.
— Как так? — спросила Ягуся, вдруг поднимаясь.
— О! Не беспокойся! В десятках двух верст отсюда я буду расписывать капуцинский костел. Буду торопиться, буду спешить, обещаю тебе. Оставлю тебя под опекой Мамонича, а этих пятьсот злотых при твоей экономии хватит тебе на время. Я ничего не беру, пойду пешком.
— Ты! Пешком! Боже!
— Да ты не знаешь, — торопливо воскликнул он, — сколько удовольствия в путешествии пешком. Я так предпочитаю. Не устаю, напротив, развлекаюсь, рисую, наслаждаюсь тысячей видов. Подпрыгну, остановлюсь, распоряжаюсь собой как хочу.
Ягуся уже села, задумавшись и отталкивая рукой деньги.
— А! Так надо! — промолвила она. — Но видит Бог, сколько мне это стоит.
— Иначе у нас не было бы работы, так как другой не найду.
— Когда же ты собираешься? — спросила Ягуся.
— Завтра, самое крайнее, послезавтра. Пойду только к знакомым, к Мамоничу, чтобы тебя им поручить. Рука Тита уже вполне зажила, ему я тебя смело поручу, это единственный настоящий друг.
Ягуся встала, поправила что-то у люльки и отошла скрыть слезы, набежавшие на глаза. Она притворилась, что занята укладкой вещей для Яна, а сама плакала. Несколько раз она болезненно улыбнулась, говорила быстро и опять укладывала вещи. Крупные слезы, как капли дождя перед бурей, падали ей на руки, на белье, которое она держала, на личико спавшего ребенка.
Ян, погруженный в свои мысли, ничего не замечал.
Потом они уселись около люльки Яся, стали тихо беседовать, прижались головами, руками. Ничего не говорили они, но одна мысль занимала обоих, мысль, которую слышали в собственном молчании. Уже поздно ночью легла Ягуся, скрывая слезы, прикидываясь спящей. Ян бешено метался на кровати.